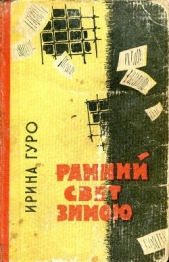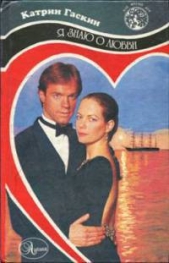Сожженный роман

Сожженный роман читать книгу онлайн
…В 1936 году Голосовкера арестовали. Три года он провел на каторге в Воркуте. Право московской прописки ему вернули лишь в 1943-м. В эти годы он познал и трагедию гибели от стихии огня своих произведений: художник, которому доверил накануне ареста рукописи, умирая, сжег их. И Голосовкер занялся восстановлением утраченного. В какой-то мере восстановлено было прозаическое произведение, действие которого происходит в Москве конца 1920 года, — оно напечатано под названием «Сожженный роман» в журнале «Дружба народов» (1991 г.) и переведено на иностранные языки….
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Найденная Рукопись была помещена Редакционной комиссией внизу, в библиотечной комнате, на особом столике, где она постоянно и лежала. Читать Рукопись можно было только за этим столиком, перед которым справа и слева были поставлены визави два удобных кресла. Уносить Рукопись к себе в комнату воспрещалось, и это решение было принято безмолвным вставанием на особом заседании всех жильцов Юродома. И до сих никто ни разу запрета не нарушил.
В эти, самые тревожные для чувств и ума дни, и разразилось событие, столь неожиданное и столь потрясающее для всего Юродома, а пожалуй, и для всего мира, — если таковым считать мир читателей, — что это событие, действительно, можно сравнить разве только с землетрясением —
На место, освободившееся от одного психейно-больного, удостоенного почетного переселения в урну, в его палату-одиночку въехал новый психейно-больной жилец, еще не старый, художник-маринист, последователь замечательного художника Чурлёниса, необычайно сильно изобразившего расщепленный, в виде зигзага молнии летящий по воздуху обломок деревянного креста, вырванного вихрем из могилы. Новоприбывший считался тем не менее русским самородком. Был он человеком новой эпохи, но старой эры. Такое сочетание в годы НЭПа возникало нередко. Может быть поэтому он и оказался психейно-больным. Во всяком случае, новоприбывший представлял собою явление. Явление было крайне костляво, геометрически прямоугольно в плечах и походке, с несгибающимися длинными ногами, и щеками до того впалыми, что их вообще как бы не существовало: только скулы торчали на необычайно узком лице с губами более чем тонкими. От углов рта — сплошь складки и при этом сплошь по вертикали, и по ним коричневатые пятна на серо-зеленом фоне: больная кожа, мертвая, словно с того света.
Удивлял в художнике его очень высокий, интеллектуальный, тоже геометрически прямоугольный, словно кем-то приставленный лоб с продольными, резко врезанными морщинами и множество мелких морщинок, тоже продольных, между ними. Прямые склеенные поседевшие волосы словно прилипали пробором к черепу со срезанным затылком и тоненькой шеей при торчащем зобе. Из-под лба по-скифски, щелками — колючие зеленые и глубокосидящие гляделки, очень зоркие, со злой точкой посредине. Когда он всматривался в человека, всегда будто со стороны, тайком, и к нему обращались неожиданно с вопросом, губы художника растягивались в нехорошую черту, а пергамент его щек образовывал от губ и носа до подбородка гармошку или некое «гофре». И улыбался он при этом как-то весьма двойственно — пренебрежительно и вместе с тем подобострастно: двойной человек — из скважины.
Болел он туберкулезом, — притом окончательным, хотя в баночку не плевал. Говорить почти не мог, во всяком случае, чрезвычайно затруднялся и при этом покашливал: кхекал. Лопатки и ключицы у него торчали и весь он казался окостенелым.
Новый жилец постоянно зяб и в его палатке-келье сложили времянку, весьма жаркую, возле которой он обычно грелся, потирая с улыбочкой ладонь о ладонь. Слушая чей-либо рассказ или разговор, он бывал необычайно серьезен, как следователь, хотя, кто его знает, слышал ли он что-либо из того, что рассказывали. Когда же он сам пытался что-либо рассказать, то у него это выходило крайне косноязычно, причем он вдобавок тихонько хихикал и хмекал, как будто думая про себя что-то совсем не то.
История с таинственным бегством жильца алтарной палаты, особенно история с находкой рукописи его чрезвычайно заинтересовала, равно как и сама личность исчезнувшего предшественника по имени Исус. С ним будто бы он когда-то встречался — не то у себя в мастерской, не то не у себя, хотя печени у них, — по словам художника, — были разные: у исчезнувшего печень была как будто добрая, а у художника — злая. Однако, кем был этот исчезнувший по имени Исус и какого он рода-племени, художник не знал.
Все это казалось далеко не достоверным: скорее всего это было высказано для отвода глаз. Рукописи он сам не читал. Ему, как больному вдвойне, — по законам природы, и по законам общества, — ее прочли вслух, и он ее всю выслушал не шевелясь, безмолвно, так сказать, не моргнув глазом и не двинув бровью. Зато после этого он часто останавливался у столика в библиотеке, где лежала Рукопись, подолгу простаивал перед нею, не отрывая от нее взгляда, и при этом опять-таки непрестанно потирал руки. В алтарную палату не поднимался и посмотреть фреску отказался наотрез:
— Знаю ее, — говорил он и вел себя так, будто он на самом деле ее когда-то видел и навсегда запомнил.
Катастрофа, как это ей и свойственно, разразилась и на самом деле катастрофически слепо. Однажды утром Рукописи на ее обычном месте не оказалось: столик был пуст. Перерыли весь Юродом, расспросили всех и каждого: в особом порядке и в неособом, — а так, вообще, между прочим, что иногда даст лучшим результат. Но розыски и расспросы оказались тщетными: Рукопись исчезла так же таинственно, как и ее автор, жилец алтарной палаты. Юродом был в тревоге, в панике, даже в ужасе. Психейно-больные распсиховались на этот раз более чем когда-либо. Некоторые даже пришли в экстаз. Других охватил небывалый энтузиазм. (Как известно, экстаз и энтузиазм, в научном смысле — вещи разные: при экстазе — полностью выходят из себя— (экс!), как бы взрываются и куда-то вырываются, а уж затем воссоединяются со всеобщим; при энтузиазме — как раз наоборот: входят в себя — (эн!), и все в себя вовлекают, т. е. опять-таки воссоединяются, но уже не снизу вверх, как при экстазе, а сверху вниз).
Такое чрезвычайное состояние психейно-больных не мог не заметить обслуживающий персонал: поэтому сам персонал психовал больше всех. Даже у знаменитого психиатра возникло в голове именно то крайнее возбуждение, как бы некий шиворот-на-выворот, который он именовал, весьма осуждающе, бредом и которое никак не должно было возникать. Одним словом, весь Юродом бредил.
И было с чего. Все разошлись по палатам додумывать и раздумывать, а вернее всего, восчувствовать, чем напрасно у нас пренебрегают и что даже презирают, ввиду отсутствия у многих этого «восчувствования» и умения им пользоваться.
Предположения и догадки о том, кто мог похитить или утаить, или куда-то заложить Рукопись, сбились буквально с ног, перегоняя друг друга в головах у наиболее изобретательных и остроумных из юродомовцев. Самой правдоподобной догадкой представлялась, как всегда, самая маловероятная, а именно та, что Рукопись забрал обратно не кто иной, как сбежавший жилец, т. е. автор романа «Видение Отрекающегося».
Разгадка последовала той же ночью.
Поздно за полночь внизу запахло гарью, как будто горела бумага и, очевидно, горела уже не мало времени. Многие из психейно-больных поднялись из постелей и как-то, вместе с прибежавшим по случаю запаха псом, Другом, оказались у двери новоприбывшего сменщика. Чад, запах горелой бумаги, шел оттуда, из-за двери. Это подтвердил и Друг, который, мотая головой и чихая, требовательно царапался когтями в дверь психейно-больного художника. Художник дверь не отворял. Тогда двое из самых высоких юродомовцев, пригнувшись, подняли на плечах третьего, легковесного. Тот заглянул сквозь узкое верхнее дверное стекло, защищенное изнутри железными прутьями — и увидел: художник, сидя на скамеечке для ног перед времянкой, сжигал в печи исписанные листы. Сомнения не было: это была она — Рукопись. Дверь пришлось выломать. Однако слишком поздно: Рукопись была уже сожжена. Выхватить из огня успели только отдельные недогоревшие листики. Но почему-то две разрозненных главы романа и еще отрывок какой-то другой главы безумец сохранил. Их нашли у него под матрасом с водяными следами на бумаге: то были следы слез. Он плакал, читая эти страницы, и на время отложил их казнь. Конечно, просто сказать в объяснение: «душа не позволила сжечь». Но тут было нечто более сложное: очевидно, что-то жестокое, даже зверское, в сочетании с умилением.