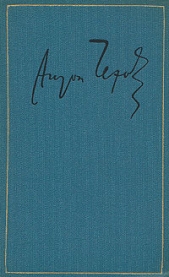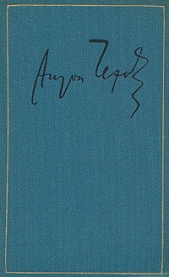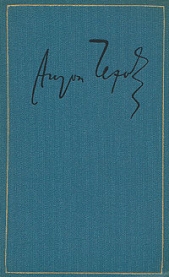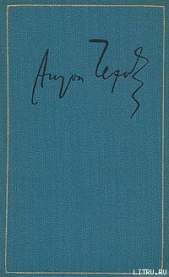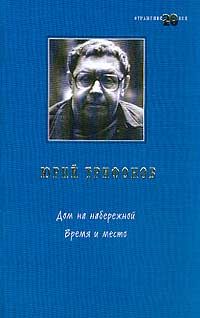Рассказы. Юморески. 1886—1886
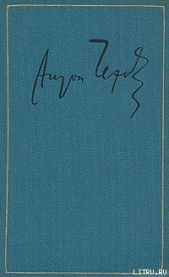
Рассказы. Юморески. 1886—1886 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Б-батюшки! Это же что? — спросил он.
Прямо на нас по аллее шла Татьяна Ивановна, жена Федора Петровича, нашего управляющего. Она несла белую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо нас, она робко, сквозь ресницы взглянула на гостя и зарделась.
— Час от часу не легче… — процедил дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслед. — У тебя, сестра, что ни шаг, то сюрприз… клянусь богом.
— Она у нас красавица… — сказала матушка. — Федору ее из посада высватали… за сто верст отсюда…
Татьяну Ивановну не всякий назвал бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лице и во всей фигуре ее не было ни одной крупной черты, ни одного смелого штриха, на котором мог бы остановиться глаз, точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновения и уверенности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, редко смеялась, и вся жизнь ее была так же ровна и плоска, как лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя щурил ей вслед глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрела на его улыбающееся лицо и сделалась серьезной.
— А вы, братец, так-таки и не женились! — вздохнула она.
— Не женился…
— Почему? — тихо спросила матушка.
— Как тебе сказать, жизнь так сложилась. Смолоду слишком заработался, не до жизни было, а когда жить захотелось — оглянулся, то за моей спиной уж 50 лет стояло. Не успел! Впрочем, говорить об этом… скучно.
Матушка и дядя оба разом вздохнули и пошли дальше, а я отстал от них и побежал искать учителя, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Победимский стоял посреди двора и величественно глядел на небо.
— Заметно, что развитой человек! — сказал он, покрутив головой. — Надеюсь, что мы с ним сойдемся.
Через час подошла к нам матушка.
— А у меня, голубчики, горе! — начала она, задыхаясь. — Ведь братец с лакеем приехал, а лакей такой, бог с ним, что ни в кухню его не сунешь, ни в сени, а непременно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мне делать! Вот что разве, деточки, не перебраться ли вам покуда во флигель к Федору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?
Мы ответили полным согласием, потому что жить во флигеле гораздо свободнее, чем в доме, на глазах у матушки.
— Горе, да и только! — продолжала матушка. — Братец сказал, что он будет обедать не в полдень, а в седьмом часу, по-столичному. Просто у меня с горя ум за разум зашел! Ведь к 7 часам весь обед перепарится в печке. Право, мужчины совсем ничего не понимают в хозяйстве, хотя они и большого ума. Придется, горе мое, два обеда стряпать! Вы, деточки, обедайте по-прежнему в полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата до семи часов.
Затем матушка глубоко вздохнула, приказала мне понравиться дядюшке, которого бог прислал на мое счастье, и побежала в кухню. В тот же день я и Победимский переселились во флигель. Нас поместили в проходной комнате, между сенями и спальней управляющего.
Несмотря на приезд дяди и новоселье, жизнь, сверх ожидания, потекла прежним порядком, вялая и однообразная. От занятий «по случаю гостя» мы были освобождены. Победимский, который никогда ничего не читал и ничем не занимался, сидел обыкновенно у себя на кровати, водил по воздуху своим длинным носом и о чем-то думал. Изредка он поднимался, примеривал свой новый костюм и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которым он нещадно хлопал ладонями. После обеда он обыкновенно «отдыхал», причем храпом наводил тоску на всю усадьбу. Я от утра до вечера бегал по саду или сидел у себя во флигеле и клеил змеев. Дядю в первые две-три недели мы видели редко. По целым дням он сидел у себя в комнате и работал, несмотря ни на мух, ни на жару. Его необыкновенная способность сидеть и прирастать к столу производила на нас впечатление необъяснимого фокуса. Для нас, лентяев, не знавших систематического труда, его трудолюбие было просто чудом. Проснувшись часов в 9, он садился за стол и не вставал до самого обеда; пообедав, опять принимался за работу — и так до поздней ночи. Когда я заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел неизменно одно и то же: дядя сидел за столом и работал. Работа заключалась в том, что он одной рукой писал, другой перелистывал книгу и, как это ни странно, весь двигался: качал ногой, как маятником, насвистывал и кивал в такт головой. Вид у него при этом был крайне рассеянный и легкомысленный, точно он не работал, а играл в нули и крестики. Каждый раз я видел на нем короткий, щегольской пиджак и ухарски завязанный галстук, и каждый раз, даже сквозь замочную скважину, от него пахло тонкими женскими духами. Выходил он из своей комнаты только обедать, но обедал плохо.
— Не пойму я братца! — жаловалась на него матушка. — Каждый день нарочно для него режем индейку и голубей, сама своими руками делаю компот, а он скушает тарелочку бульону да кусочек мясца с палец и идет из-за стола. Стану умолять его, чтоб ел, он воротится к столу и выпьет молочка. А что в нем, в молоке-то? Те же помои! Умрешь от такой еды… Начнешь его уговаривать, а он только смеется да шутит… Нет, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!
Вечера проходили у нас гораздо веселее, чем дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинные тени, мы, то есть Татьяна Ивановна, Победимский и я, уже сидели на крылечке флигеля. До самых потемок мы молчали. Да и о чем прикажете говорить, когда уже всё переговорено? Была одна новость — приезд дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель всё время не отрывал глаз от лица Татьяны Ивановны и глубоко вздыхал… Тогда я не понимал этих вздохов и не доискивался их смысла, теперь же они объясняют мне очень многое.
Когда тени на земле сливались в одну сплошную тень, с охоты или с поля возвращался управляющий Федор. Этот Федор производил на меня впечатление человека дикого и даже страшного. Сын обрусевшего изюмского цыгана, черномазый, с большими черными глазами, кудрявый, с всклоченной бородой, он иначе и не назывался у наших кочуевских мужиков, как «чертякой». Да и кроме наружности, в нем было много цыганского. Так, он не мог сидеть дома и по целым дням пропадал в поле или на охоте. Он был мрачен, желчен, молчалив и никого не боялся и не признавал над собой ничьей власти. Матушке он грубил, мне говорил «ты», а к учености Победимского относился презрительно. Всё это мы прощали ему, считая его человеком вспыльчивым и болезненным. Матушка же любила его, потому что он, несмотря на свою цыганскую натуру, был идеально честен и трудолюбив. Свою Татьяну Ивановну он любил страстно, как цыган, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При нас он никогда не ласкал своей жены, а только злобно таращил на нее глаза и кривил рот.
Возвратившись с поля, он со стуком и со злобой ставил во флигеле ружье, выходил к нам на крылечко и садился рядом с женой. Отдышавшись, он задавал жене несколько вопросов по части хозяйства и погружался в молчание.
— Давайте петь, — предлагал я.
Учитель настраивал гитару и густым, дьячковским басом затягивал «Среди долины ровныя». [44] Начиналось пение. Учитель пел басом, Федор едва слышным тенорком, а я дискантом в один голос с Татьяной Ивановной.
Когда всё небо покрывалось звездами и умолкали лягушки, из кухни приносили нам ужин. Мы шли во флигель и принимались за еду. Учитель и цыган ели с жадностью, с треском, так что трудно было понять, хрустели то кости или их скулы, и мы с Татьяной Ивановной едва успевали съесть свои доли. После ужина флигель погружался в глубокий сон.
Однажды, было это в конце мая, мы сидели на крыльце и ожидали ужина. Вдруг мелькнула тень и перед нами, словно из земли выросши, предстал Гундасов. Он долго глядел на нас, потом всплеснул руками и весело засмеялся.
— Идиллия! — сказал он. — Поют и мечтают на луну! Прелестно, клянусь богом! Можно мне сесть с вами и помечтать?