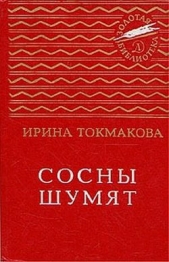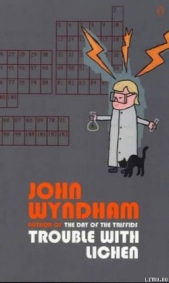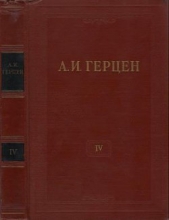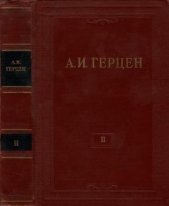Кто виноват? (сборник)
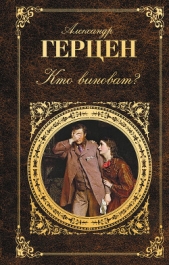
Кто виноват? (сборник) читать книгу онлайн
Александр Иванович Герцен (1812–1870) — писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России — в своем знаменитом романе «Кто виноват?» писал о темах, по-прежнему актуальных и в наше время: положение женщины в браке, свобода чувства, семейные отношения. Страстный защитник русского народа, писатель активно выступал за необходимость просвещения народа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— То есть перед тем, чего нет. И я, с своей стороны, скажу, что всю жизнь не понимал да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы мучить себя грезами и придумывать беды и вперед грустить. Такой характер — своего рода несчастие. Ну, пришибет бедою, разразится горе над головой, — поневоле заплачешь и повесишь нос; но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подаст прескверного квасу, — это своего рода безумие. Неуменье жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время. Мы все еще похожи на тех жидов, которые не пьют, не едят, а откладывают копейку на черный день; и какой бы черный день ни пришел, мы не раскроем сундуков, — что это за жизнь?
— Я совершенно согласна с вами, Семен Иванович, — с жаром сказала Круциферская. — Я часто говорю об этом с Дмитрием. Если мне хорошо, зачем я стану думать о будущем? Для меня его хоть бы совсем не было. Он сам со мною часто соглашается, но тайная грусть так глубоко вкоренилась в него, что он не может ее победить. Да и зачем, впрочем, — прибавила она, светло и симпатично улыбаясь мужу, — я и грусть эту люблю в нем, в ней столько глубокого. Я думаю, мы с вами оттого не понимаем или, по крайней мере, не сочувствуем этой грусти, что у нас нрав поверхностнее, удобовпечатлительнее, что нас занимает и увлекает внешность.
— Начали за здравие, свели за упокой; начали так, что я хотел поцеловать вашу ручку и сказать мужу: «Вот человеческое пониманье жизни», а кончили тем, что его грезы — глубокомыслие; хорошо глубокомыслие — мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещах, которых, может быть, и не будет.
— Семен Иванович, на что вы так исключительны? Есть нежные организации, для которых нет полного счастия на земле, которые самоотверженно готовы отдать все, но не могут отдать печальный звук, лежащий на дне их сердца, — звук, который ежеминутно готов сделаться… Надобно быть погрубее для того, чтоб быть посчастливее; мне это часто приходит в голову; посмотрите, как невозмущаемо счастливы, например, птицы, звери, оттого что они меньше нас понимают.
— Однако довольно неприятно, — заметил неумолимый Крупов, — иметь высшую натуру для существа, назначенного жить не выше и не ниже, как на земле. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое расстройство, за нервный припадок; обливайтесь холодной водой да делайте больше движения — половина надзвездных мечтаний пройдет. Вы, Дмитрий Яковлевич, от рождения слабы физическими силами; в слабых организациях часто умственные способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдак вкось, куда-нибудь в отвлеченье, в фантазию, в мистицизм. Вот отчего древние говорили: mens sana in corpore sano [48]. Посмотрите на бледных, белокурых немцев, отчего они мечтатели, отчего они держат голову на сторону, часто плачут? От золотухи и от климата; от этого они готовы целые века бредить о мистических контроверзах, а дела никакого не делают.
— Недаром говорят, что медицинские занятия прививают человеку какой-то сухой материальный взгляд на жизнь; вы так коротко знакомитесь с вещественной стороной человека, что из-за нее забыли другую сторону, ускользающую от скальпеля и которая одна и дает смысл грубой материи.
— Ох, эти мне идеалисты, — сказал Семен Иванович, который приметно начал сердиться, — вечно подъезжают с вздором. Да кто же это им сказал, что вся медицина только и состоит из анатомии; сами придумали и тешатся; какая-то грубая материя… Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынешние ученые, а мелко плаваете! Это наш старый спор, он никогда не кончится, лучше перестать. Посмотрите, как Яшу мы убаюкали нашими пустяками, спит себе спокойно. Спи, малютка! Тебя еще папаша не научил презирать землю да материю, не уверил еще тебя, что эти милые ножки, эти ручонки — кусочки грязи, приставшей к тебе. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте в нем этих пустяков; ну, вы мужу даете поблажку, бог с ним! Невинного ребенка, по крайности, не развращайте этим бредом с малых лет; ну, что сделаете из него? Мечтателя. Будет до старости искать жар-птицу, а настоящая-то жизнь в это время уйдет между пальцев. Ну, хорошо ли это? Возьмите-ка его.
Старик отдал Яшу матери, взял свой картуз и, медленно застегивая фрак, сказал:
— Ах, я забыл вам рассказать: на днях как-то я познакомился с преинтересным человеком.
— Верно, с Бельтовым? — спросила Круциферская. — Его приезд до того наделал шуму, что и я узнала об нем от директорши.
— Именно. Они шумят потому, что он богат, а дело в том, что он действительно замечательный человек, все на свете знает, все видел, умница такой; избалован немножко, ну, знаете, матушкин сынок; нужда не воспитывала его по-нашему, жил спустя рукава, а теперь умирает здесь от скуки, хандрит; можете себе представить, каково после Парижа.
— Бельтов! Да позвольте, — сказал Дмитрий Яковлевич, — фамилия знакомая; да не был ли он в мое время в Московском университете? Бельтов оканчивал курс, когда я вступил; про него и тогда говорили, что он страшно умен; еще его воспитывал какой-то женевец.
— Тот самый, тот самый.
— Я помню его, мы были немного знакомы.
— Я уверен, что он был бы очень рад вас видеть; в этой глуши встретить образованного человека — всякому клад; а Бельтов вовсе не умеет быть один, сколько я заметил. Ему надобно говорить, ему хочется обмена, и он болен от одиночества.
— Если вы не находите ничего против этого, я, пожалуй, пойду.
— Пойдемте-ка, доброе дело. — Нет, постой; вот я и стар, да опрометчив; он слишком, брат, богат, чтоб тебе первому идти к нему! Я завтра ему скажу: захочет, приедем с ним к тебе. — Прощай, любезный спорщик. Прощайте.
— Привозите же завтра вашего Бельтова, — сказала Любовь Александровна, — нам до того наговорили об нем, что и мне захотелось его видеть.
— Стоит, право, стоит, — сказал старик, выходя в переднюю.
Крупов всякий раз спорил с Круциферским, всякий раз сердился и говорил, что он все более и более расходится с ним, — что не мешало нисколько тому, что они сближались ежедневно теснее и теснее. Для Крупова семья Круциферского — была его семья; он туда шел пожить сердцем, которое у него еще было тепло, отдохнуть, глядя на счастье их. Для Круциферских Крупов представлял действительно старшего в семье — отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови дали власть иногда пожурить и погрубить, — что оба прощали ему от души, и им было грустно, когда не видали его дня два.
На другой день, часов в семь после обеда, Семен Иванович привез в своих пошевнях, покрытых желтым ковром, и на паре обвинок, светло-саврасой шерсти, Бельтова к Круциферскому. Разумеется, Бельтов был рад-радехонек познакомиться с порядочным человеком, и ему вовсе не пришло в голову, что он сделает первый визит. Хозяева немного сконфузились; похвалы Семена Ивановича, слух о его заграничной жизни, даже его богатство — все это смутно вспомнилось, когда он вошел в комнату, и сделало встречу несколько натянутой; но это тотчас прошло. В приемах и речах Бельтова было столько открытого, простого, и притом в нем было столько такту, этой высокой принадлежности людей с развитой и нежной душою, что не прошло получаса, как тон беседы сделался приятельским. Даже Круциферская, так не привыкнувшая к посторонним, невольно была вовлечена в разговор. С Дмитрием Яковлевичем Бельтов вспомнил университетские годы, бездну тогдашних анекдотов, тогдашние мечты, надежды. Давно ему не было так отрадно, и он дружески благодарил Крупова за это знакомство, когда тот подвез его к подъезду гостиницы «Кересберг».
— Ну, что, — спрашивал потом Семен Иванович у Круциферских, — как вам нравится новый знакомый?
— Этого и спрашивать не следует, — отвечал Круциферский.
— Он мне очень понравился, — сказала Любовь Александровна.
Семен Иванович, чрезвычайно довольный, что доставил всем удовольствие, шутливо погрозил пальцем.