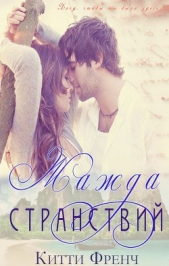Солдат всегда солдат. Хроника страсти
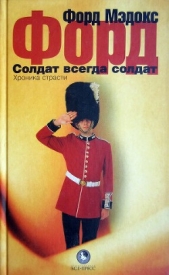
Солдат всегда солдат. Хроника страсти читать книгу онлайн
«Солдат всегда солдат» — самый знаменитый роман английского писателя Форда Мэдокса Форда (1873–1939), чьи произведения, пользующиеся широкой и заслуженной популярностью у него на родине и безусловно принадлежащие к заметным явлениям европейской культуры 20-го столетия, оставались до сих пор неизвестны российским читателям.
Таких, как Форд, никогда не будет много. Такие, как Форд, — всегда редкость. В головах у большинства из нас, собратьев-писателей, слишком много каши, — она мешает нам ясно видеть перспективу. Часто мы пишем ради выгоды, славы или денег. …у многих из нас просто не хватает моральной стойкости, которая неотделима от нелегкой писательской судьбы.
Форду выдержки было не занимать. Он ясно понимал, что выбирает человек, решая стать писателем… Форд — настоящий аристократ. Профессиональный писатель, не запятнавший себя ни словом, подлинный мастер, он всегда держался твердо, умел отличить истинно значимое от ложного, мелкого… Форд Мэдокс Форд — богач. Втайне мы все желали бы стать такими богачами. Его богатство — добротная работа и самоуважение…
Шервуд Андерсен
После Генри Джеймса это сегодня самый сильный романист, да и в мастерстве ему, пожалуй, нет равных. Мир, увы, слишком занят петушиным боем коммунизма и фашизма, чтобы прислушаться к философии этого английского тори. А зря — Форду одинаково претит и политика консерваторов, и любая другая доктрина.
Грэм Грин
Больше всего к Форду применимо слово «широта». Он любил повторять: гений — это гениальная память. У него самого память была необъятная. Никто так не восхищался писателями старшего поколения и не открыл столько молодых талантов, как он. И ведь он до конца оставался неуемным энтузиастом и искателем. Он был фанатично, по гроб жизни, предан искусству: так умеют только англичане — безоглядно, весело. Казалось, сердцу его тесно в грудной клетке: всё в нем выпирало наружу — стойкость, широта, щедрость.
Роберт Лоуэлл
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но в чем бы она мне никогда не призналась, это в своих шашнях с типом по имени Джимми. С годами она поняла, с каким мерзавцем, плебеем, низкопробным посетителем будуаров связалась. Знаете, как бывает, взрослым страшишься — до дрожи — какой-нибудь маленькой глупости, пустячка, эмоционального всплеска, приключившегося с тобой в молодости. Вот так, я думаю, внутренне содрогалась и Флоренс, вспоминая, как она уступила домогательствам этого мерзавца. Напрасно, впрочем, она так терзалась. Это было, конечно, делом рук ее выжившего из ума дяди. Ему ни в коем случае нельзя было брать с собой в путешествие этих двух молодых людей, а самому сидеть, запершись в каюте. В общем, я почти наверняка знаю, что решиться на самоубийство ее заставили два обстоятельства: появление мистера Бэгшо и мысль, что этот неприятный и скользкий тип обязательно сообщит мне о том, что видел, как 4 августа 1900 года она выходила в пять утра из спальни Джимми. Еще, конечно, сыграло трагическую роль совпадение дат: она всегда была очень суеверной. 4 августа — ее день рождения. 4 августа она отправилась в кругосветное путешествие. 4 августа она стала любовницей этого плебея. 4 августа мы с ней обвенчались. 4 августа она узнала о том, что Эдвард ее разлюбил. И 4 же августа появился Бэгшо — чем не дурное предзнаменование? Чем не перст судьбы? Это стало последней каплей. Не задумываясь, побежала наверх, бросилась на кровать, не забыв принять выигрышную позу: пусть все видят — хорошенькая женщина, личико — кровь с молоком, длинные волосы, ресницы красивыми густыми щеточками. Достала флакончик с синильной кислотой, выпила — и всё. Ах, до чего хороша и спокойна! Как пытливо смотрит на электрическую лампу под потолком, а может, выше — на звезды? Кто знает? Ясно одно: Флоренс больше нет.
Вы не представляете, в какое состояние я впал после ее смерти. Вплоть до сегодняшнего дня я ни разу о ней не вспомнил, ни разу не вздохнул. Разумеется, с Леонорой мы говорили о ней, вот и сейчас я о ней вспоминаю, пытаясь разобраться в случившемся. Но все это я делаю, словно решая алгебраическую задачу. И так было всегда — я изучал ее и никогда о ней не вспоминал. Флоренс выпала из моей жизни, как вчерашняя газета из рук.
Я был тогда смертельно уставшим. Сейчас я понимаю, что те семь или десять дней прострации, в которую я впал, — по сути, физический и душевный коллапс, — были для меня необходимым отдыхом. Их требовало все мое существо, усталое, измочаленное, измотавшееся за целых двенадцать лет бесконечного подавления простых человеческих желаний, — двенадцать лет натаскивания на роль ручной болонки. Ведь именно эту роль я старательно играл все годы. Еще я думаю: это состояние было результатом пережитого шока, точнее, нескольких ударов. Впрочем, описывать мое состояние в те дни как шок или удар мне не хочется. Я испытывал такое чувство покоя! Словно с натруженных моих плеч спал тяжеленный рюкзак, и, хотя плечи освободились, я еще долго чувствовал онемелость от врезавшихся ремней. Повторяю, я ни о чем не сожалел. Да и о чем сожалеть? Видимо, в глубине души — помните, я говорил про двойное дно? — я давно уже осознал, что Флоренс — это муляж. Она так же мало походила на настоящего человека, у которого есть сердце, душа, который чувствует, сострадает, мучается, — как манекен на человека из плоти и крови. Или как банкнота — на определенное количество унций золота. Я знаю, что это чувство окрепло во мне, едва этот Бэгшо сказал мне, что видел, как она выходила из спальни того мерзавца. Да меня вдруг дошло, что она фальшивка: просто набор фраз из туристических брошюр, серия картинок из модных журналов. Если б не это чувство, я, может, быстрее побежал бы к ней в комнату, помешал бы ей выпить яд. Но у меня опустились руки, — это все равно что пытаться поймать в воздухе обрывок газеты: занятие, недостойное взрослого человека.
И пошло-поехало. Мне было уже все равно, выйдет она из спальни или нет. Я потерял интерес — Флоренс стала мне безразлична.
Вы скажете, что я уже был в то время влюблен в Нэнси Раффорд и подобное равнодушие меня дискредитирует. Ну что ж, я и не пытаюсь оправдаться. Да, я любил Нэнси Раффорд, я и сейчас вспоминаю с любовью бедную девочку — молча и нежно, как водится у американцев. Я не задумывался о своих чувствах, пока не услышал от Леоноры, что теперь могу на ней жениться. Но с того самого момента и до конца, оказавшегося хуже смерти, мне кажется, я только об этом и думал — жениться. Не подумайте, я вовсе не сох по ней, не вздыхал. Мне просто запало в душу на ней жениться — так некоторым западает в душу поехать в Каркассонн.
С вами такое бывало — хочется поскорее расправиться с делами, уладить всякие пустяковые проблемы, чтоб, наконец, отправиться в город твоей мечты? Разница в возрасте не играла для меня большой роли. Мне было сорок пять, ей, бедняжке, вот-вот должно было исполниться двадцать два. Но она была не по годам взрослая и несуетная. В ней была какая-то святость, тишина, если угодно — глядя на нее, ты невольно думал, что она закончит жизнь в обители монахиней, в белом куафюре. Правда, она часто разубеждала меня, говоря, что у нее нет для этого призвания: просто нет, и всё — не хочется становиться монахиней. Ну что ж, в таком случае, чем я не обитель? Я с радостью приму ее обеты.
Нет, правда, я не думал, что возраст может стать препятствием. Какой мужчина будет с этим спорить? Я был уверен, что сумею сделать молодую барышню счастливой. Я буду баловать ее, как редко кого из девушек балуют, и, потом, я вовсе не считал себя физическим уродом. Да и как можно? Мужчинам такое самобичевание вообще несвойственно, а если уж до этого докатился, конец тебе. Нет, как только я вышел из состояния комы, я понял, что мне надо делать. Приготовиться к встрече с ней я могу одним-единственным способом — вернувшись к жизни. Я двенадцать лет провел в разреженной санаторной атмосфере. Мне отчаянно не хватало здорового соперничества, встреч с деловыми людьми, больших городов — словом, жесткого мужского мира. Мне совсем не хотелось предстать перед Нэнси Раффорд эдакой старой девой. И поэтому спустя две недели после самоубийства Флоренс я отправился в Штаты.
2
Сразу после смерти Флоренс Леонора, видимо, решила держать Нэнси Раффорд и Эдварда в узде. Она догадалась о том, что случилось той ночью в парке возле казино. Я уехал, а они еще какое-то время оставались в Наухайме, и после Леонора рассказывала мне, что другого такого мертвого сезона в своей жизни она не помнит. Будто медленно, молча борешься один на один с невидимым врагом, — это ее собственные слова. И это тем тяжелее, что девочка была сама невинность. Она все время норовила пойти гулять с Эдвардом одна — она всегда так делала, когда приезжала домой на каникулы. Естественно, ей так хотелось снова услышать от него чудесные слова в свой адрес.
В общем, положение крайне затруднительное. Затруднительное и щекотливое. Дело осложнялось тем, что Эдвард и Леонора совсем не разговаривали друг с другом. Только если с ними был кто-то третий, они начинали обмениваться репликами. Тут они вели себя, я говорил, безупречно. Другая сложность заключалась в самой девочке — она была невинна, как ангел. Осложнялось все тем, что и Эдвард, и Леонора считали ее своей дочерью. Точнее, дочерью Леоноры. А Нэнси была девочка не простая; я даже затрудняюсь ее описать.
Высокая, худобы необыкновенной; нервный рот, страдающие глаза и бездна остроумия. Посмотришь на нее — странная особа, присмотришься — писаная красавица. У нее были роскошные темные волосы — я таких в жизни не видал. Я все удивлялся: неужели ей не тяжело носить на голове эту копну? Ей только исполнился двадцать один год, а временами она казалась мудрой, как сама Земля, хотя бывали минуты, когда ей не дашь больше четырнадцати. Порой слушаешь — она так серьезно рассказывает о жизни святых мучеников, глядь — уже возится на лужайке со щенком сенбернара. Она, как Леонора, умела гнать гончих, и она же могла сидеть часами, не шелохнувшись, у изголовья тетушки, страдавшей от мигрени, смачивая в уксусе платок за платком. Одним словом, она была и ангельски терпелива, и непоседлива, точно чертенок. Сказывалось воспитание среди послушниц. Вспоминаю, как лет в шестнадцать она писала мне в одном из писем: