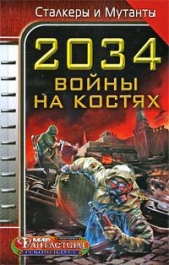Голая пионерка

Голая пионерка читать книгу онлайн
Батально-эротическая феерия, о восьми главах огнедышащих, с бодрой войной и гордой блокадой, с чистой любовью и грязным сексом, с громом психопропедевтических выстрелов генерала Зукова в упор и навскидку, а также зафиксированным явлением Пресвятой Богородицы и стратегическими ночными полетами АБСОЛЮТНО ГОЛОЙ ПИОНЕРКИ!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но патрульные гансы, между прочим, тоже были ребята не из робкого десятка. Когда Муха услышала, уже вплотную, громкое «Хенде хох!» – и впереди, и сзади, и слева, прямо из леса, – как будто кастрюлей накрыло пятерых окруженцев, – руки ее сами собой поднялись, а лопатки свело судорогой, – точно вот-вот с двух шагов перебьет ей позвоночник экономная немецкая очередь.
Шла она последней. Впереди, не оглядываясь, только взбагровев затылком и лысиной сквозь серебряную шевелюру, руки поднял комиссар Чабан. Пятеро оставшихся от роты пехотинцев, отрезанные с трех сторон, застыли посередине просеки с поднятыми руками. Чабан выматерился протяжно, сплюнул себе под ноги, прошипел: «Сказано же было: по болоту надо! Нет – по просеке поперлись… Пи-и-з-з-здеццц!»
Последнее словцо, как будто впервые услышанное, по уху Муху огрело – аж горячо стало и самому уху, и правой щеке. И не потому, что мат. У него ведь, у слова, значение есть. Причем не мужское значение – бабье. И в тот же жгучий миг вспомнилось ей, как прошлой ночью, у костра, в двух шагах от неспящей на куче лапника Мухи сказал, между прочим, комиссар Чабан, поводя над пламенем промокшей портянкой:
– Все б ничего, да баба вот с нами… Она еще сикуха, конечно, а все ж баба, никуда ты не денешься. А баба на корабле – это быть беде, факт…
Дыхание у нее остановилось. Муха крепче зажмурила глаза и застыла телом, чтоб не шелохнуться, не поняли бы, что она не спит, слышит.
Главное, если б Санька, дурак, ляпнул не подумав или хоть Севка, – ладно, не обидно, у них у обоих язык без костей болтается. А на Чабана она готова была молиться.
Чабан!…
Чабан – это Чабан. Батя.
Чабан ей на всю военную жизнь глаза раскрыл. Поддержал в трудный момент, не дал споткнуться. Ведь если б не он, сотворила бы что-нибудь с собой, факт. Мухе за Чабана жизнь отдать – плюнуть. А он – такие слова…
Солдаты верили: комиссар Чабан – совесть батальона.
Был он уже седой, но еще крепкий, сбитый весь, как дубовый чурбак. И живот его, строго-настрого перетянутый двумя портупеями да еще лакированным щегольским ремешком трофейного цейсовского бинокля, и красное лицо, с широкими трубами пульсирующих на лбу жил, с вываренными, без бровей и ресниц веками, налитыми как бы свинцовой скорбью выжидающего стратега, угрюмого при вынужденном, однако мудро заблаговременно рассчитанном отступлении, и гордый, обиженно дрожащий баритон, уютно, как у заслуженного вокалиста, уложенный на тройной розовый подбородок над вольготно расстегнутым воротом гимнастерки с растущим кустом седой патриаршей шерсти, – все вселяло необходимую, как дыхание, веру в близкую внезапную светозарную цель временных, а потому и терпимых тягот, потерь и стыда. И пусть пока что полная – наголову – победа над заманиваемым вглубь территории врагом ясно видна лишь ему одному, но не бойцам, истосковавшимся по рукопашной гибели во славу его стратегического гения, – каждый, кто встречал его прямой взгляд из-под набрякших чужим паникерским неверием век, вздрагивал сердцем и гнал свою слабость в пятки, в мозоли, в сбившийся ком промокшей портянки, в дыру на протертом голенище, в щель над подошвой пудового, задубелого, полусгнившего солдатского ботинка, разбитого отступленьем.
– Ррродные мои! Бррратья крррасноарррмейцы! – раскатывал Чабан над строем разом притихших мальчиков – и замирали у них даже пальцы преющих ног. – Верю, что устали! Знаю! – он шел вдоль строя, опустив на подбородок седую тяжелую голову с раздутыми жилами на лбу и висках. Останавливался. Смотрел поверх голов в светлую, одному ему сияющую, трагически-прекрасную даль. Проводил широкой белой ладонью по литой серебряной шевелюре. – Ррродные! Идеттт война нар-рродная! Священнная война!…
Муха, чувствуя свою причастность, смотрела комиссару в рот, тихо и счастливо копала в носу. Рядом вздрагивал и хлюпал интеллигентный студент Санька Горяев. На губу ему скатывалась толстая, как сарделька, длительная слеза.
– Есть такое слово – нннадо! – Чабан снова ронял голову, замолкал надолго.
– Умеет говорить, сукин сын, этого не отнимешь, – Санька смахивал слезу, крякал, как будто Муха ему спину чесала особенно удачно. – Академию, говорят, кончал. Кремень мужик!
Муха скатывала козявки в шарики, но вклеивала их обратно в ноздрю, поскольку стеснялась: строй – место священное.
– Победа близка! – Чабан брал себя обеими руками за ремень – крепко, уверенно, властно. – Скоро погоним подлого врага с нашей священной земли! За горе наших матерей! За ррраны товарррищей! За слезы детей и вдов!…
И снова голова его падала на грудь так, словно все тяготы солдатской жизни-смерти лежали на его широких плечах старого дуба, взматеревшего под всеми молниями века, что выжгли ему сердцевину до черной пустотелой горечи, но сквозь нее-то, как в сказке, и прет чудо-богатырская справедливая мощь земли-матушки.
– Выпивает, говорят, по два литра в день, не менее, – до того исстрадался, бедный! – Санька вздыхал. – А ты, Муха, примечай, как держит себя человек, хоть и позволил. Старая гвардия. Не то что ты, сопля, – сто грамм примешь – и пьяная в сиську, срам!…
Она молча пихнула его локтем. А козявку из носа все-таки выкатила и уронила себе под ноги, как бы нечаянно.
– Есть одно слово у нас: нннадо! – повторил Чабан. – Сапоги прохудились? Вижу! Бельишка теплого не выдал старшина? По дому истосковались? Верю. У самого серррдце дотла выжжено! Только стальная воля и боль за Ррродину! И несгибаемая сталинская вера в победу!… А не сапоги! – рубанув воздух широкой белой ладонью. – Не слабость! Не паникерство! Кто устал, у кого нервы сдали – скажи прямо! Я тебя сам! Тут же, на месте! Вот этой самой отцовской своей рукой! – он хлопнул себя по кобуре. – Сапоги износились? Сними сапоги с врррага! Задуши его голыми ррукками! Возьми его сапоги! Автомат его возьми! Вот этой самой рррукой! – взметнув над вздыбленной шевелюрой литой кулак. – Как мы брррали в девятнадцатом году! Голодные! Ррразутые! Вшшшивые! Где же совесть твоя, советский боец? Водку тебе выдают каждый день! Где честь твоя, солдат? Прррропил?!! Прррроменял на лишний глоток?!!! Гансу поганому подаррррил?!!!!
– Нет таких! – петушиный ломающийся тенорок лейтенанта-взводного.
– Тогда не скулллить! – Чабан рычал теперь, выхрипывая слова как бы сквозь нечеловеческую боль и хмельное изнеможение. – То-гда-не-по-зор-р-рить-ррря-ды! Впер-ррред, орр-ррлы! Не посрррамим! Не урррроним! Не отдадим!…
Он уже трясся так, что шевелюра его раскололась, обнажив красную лысину, на две волны, сползающие, как непропеченные блины, на маленькие уши и виски. Багровый лоб, залитый потом, и все его вспухшее лицо лоснилось, как парная говядина.
– Сильно говорит! – шептал побледневший Горяев. – За таким батей – как за каменной стеной… Не бережет себя, горячая голова! У него же сердце уже, говорят, надорвано. Горит
человек, конечно… Уже ему даже доктора запретили в атаку ходить, говорят. И водки ни-ни. Ни грамма! Исключительно армянский коньяк, специально интендант привозит, два ящика в месяц как раз и хватает, дай бог здоровья…
Тягостно отупевшая, Муха уже не разбирала слов Чабана. Освобождающая глыба темной бесконечной необходимости, придавливая, утоляла смутные подспудные всплески ее беспомощной тоски, которую Муха определяла в себе как несознательность и паникерство. После речей комиссара Чабана перед строем она всякий раз надолго впадала в теплый густой покой. Покой сливал заново существо ее с непонятной, однако насущной длительностью не выгорающего в ежечасном терпении, не изживаемого, чуждого времени, – оно имело запах спирта, стрельбы, разверзшихся внутренностей. Оно словно бы скапливалось в ней день за днем, месяц за месяцем, все увеличивая давящий ком в подреберье, так что Мухе стоило все больших усилий подавлять почти постоянную тошноту.
Чувство тошноты шло не от горла, не от живота, как ежемесячно в женские дни ее пренебрегаемого теперь, как в раннем детстве, глухого тела. Мутило Муху то от бессмысленной вечерней тишины, когда Санька и Севка курили от безделья или спали впрок, то от белого лица полной луны, разводящей по небу волны неслышного пронзительного звона, до стукотанья в висках и жгучей испарины на ресницах. Частенько зудящая пустота под ложечкой и оскомина отбрасывала ее в озноб от запаха лесного мха, или духа портянок, или уж просто сама по себе, а может, и не успевала дева усмотреть причину, так как привыкла, притерпелась. Впервые же вдруг заметила за собой эту тягостную болезнь или привычку тела не слушаться, томить, бунтовать душу в то раннее дождливое утро, когда проснулась хмельной и растерзанной, с перепутанными в животе кишками, с искусанными до крови сосками, рядом с храпящим чернолицым командиром роты, который вечером, после похорон ее первого ласкового «мужа», привел ее в свою палатку и приказал помянуть старшину Быковского с ним на пару. Муха испугалась, что и к ней подбирается исподволь, через боль в животе и груди, такая же грязная, как сама она, и такая же зряшная, как у старшины, вовсе не фронтовая, бесславная смерть. И тут же вдруг поняла, что за смертью она и пришла на войну. Но ведь не за такой же, бляха-муха! Пусть бы в атаке, в сплошной стрельбе, вместе с Красной Армией, лицом к врагу пасть, – но не от мутной, чужой, не вмещенной в себя боли, у которой нет на ее тело прав никаких по закону, а значит и смысла в том никому не будет – ни пользы, ни чести.