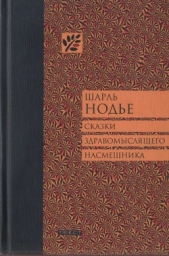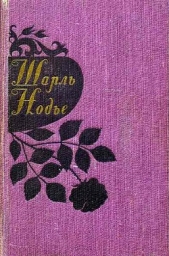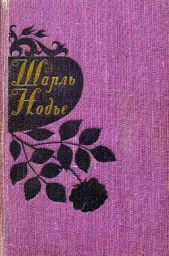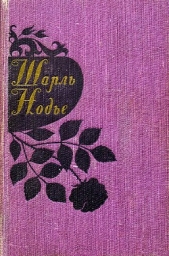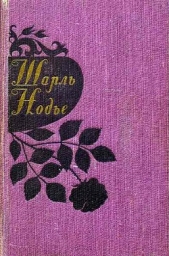Фея Хлебных Крошек

Фея Хлебных Крошек читать книгу онлайн
Повесть французского романтика Шарля Нодье (1780–1844) «Фея Хлебных Крошек» (1832) – одно из самых оригинальных и совершенных произведений этого разностороннего писателя – романиста, сказочника, библиофила. В основу повести положена история простодушного и благородного плотника Мишеля, который с честью выходит из всех испытаний и хранит верность уродливой, но мудрой карлице по прозвищу Фея Хлебных Крошек, оказавшейся не кем иным, как легендарной царицей Савской – красавицей Билкис. Библейские предания, масонские легенды, фольклорные и литературные сказки, фантастика в духе Гофмана, сатира на безграмотных чиновников и пародия на наукообразные изыскания псевдоученых – все это присутствует в повести и создает ее неповторимое очарование.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Что, черт подери, он там бормочет? – визгливым голосом, от которого лопнули бы барабанные перепонки у бронзовой статуи, крикнул мой адвокат, расслышавший мои последние слова, вероятно, оттого, что я произнес их вслух. – Что он там бормочет? – повторил адвокат. – Он у меня в руках, господа, он у меня в руках. Я составил его френологический критерий ad unguem. [112] Мономания в чистом виде. Insanus aut valde stolidus. [113] Что я и не замедлю вам доказать в моей защитительной речи. – Он у меня в руках, – добавил мой защитник голосом еще более оглушительным, рухнув мне на плечи.
Я в самом деле был у него в руках, ибо он пробегал по той нравственной клавиатуре, которую многоопытные философы обнаружили на поверхности нашей черепной коробки, пальцами столь сильными и острыми, что мне казалось, будто он задался целью извлечь оттуда мозговое вещество и, в согласии с восхитительной методой мудрого Шпурцгейма, [114] предъявить его суду в качестве вещественного доказательства…
– Ради Бога, – сказал я, стремясь поскорее высвободиться из цепких рук служителя Фемиды, чем заставил его совершить один из прекраснейших прыжков, какие когда-либо совершались членами коллегии адвокатов, – воздержитесь от столь недостойных методов защиты! Хотя все, что со мною происходит, особенно начиная со вчерашнего дня, могло бы свести с ума семерых мудрецов [115] и даже, как говорят итальянцы, impazzare Virgilio, [116] я, благодарение Богу, столь же мало заслуживаю звания глупца или безумца, сколь и звания преступника. Я невинен и для защиты не нуждаюсь ни в чем ином, кроме моей невинности. Я прошу только одного – пригласить сюда мастера Файнвуда, плотника из арсенала, и мистрис Спикер, хозяйку постоялого двора «Каледония».
– Mad, mad, very mad! [117] – перебил меня крохотный адвокат, заглушая мои слова криком столь визгливым и пронзительным, какого наверняка не смог бы издать никто из пернатых. – О чем он толкует, господа, скажите на милость? Плотник из арсенала и хозяйка «Каледонии» отроду не подлежали вашей юрисдикции!
Хотя мне и трудно было попять, как можно лишить меня этих двух свидетелей, я не допускал мысли, что меня осмелятся казнить по ничем не доказанному подозрению, и продолжал защищаться настолько хладнокровно, насколько позволяли шумное ерзанье, громкие прыжки, гимнастические трюки и подскоки моего адвоката, его оглушительный свист и душераздирающие каденции, которые он с безжалостной щедростью выводил под аккомпанемент громозвучно храпящего трибунала. Я сослался на моих последних и главных свидетелей, немногочисленных, но неопровержимых – на годы жизни трудовой и безупречной, – и уже подходил к заключительной части, надеясь, что она прозвучит довольно убедительно, ибо, если бы красноречию негде было больше укрыться на земле, оно, должно быть, нашло бы приют в речах невинной жертвы, как вдруг речь мою прервал ужасный хрип, подобный тому, какой иногда, после трех безмолвных ночей, прерывает смертельную тишину, царящую среди развалин разоренного города, и в то же мгновение я увидел, что лицо ястреба-обвинителя исказила ужасная гримаса и под клювом у него разверзлась зияющая дыра, бездонная, как пропасть, и алая, как печка!
Обвинитель, в отличие от адвоката, оставался неподвижен. Он лишь начинал внезапно, не трогаясь с места, сотрясаться с величавой неспешностью, произнося неестественным и неприятным голосом говорящего автомата бессвязные цепочки слов, перемежающихся ничего не выражающими междометиями, среди которых лишь одно слово, повторявшееся через почти равные промежутки времени, звучало четко и ясно. Это было слово СМЕРТЬ. Я пришел к заключению, что создатель этой обвинительной машины настраивал ее в припадке черной меланхолии и гневного отчаяния.
– Неужели правда, – сказал я самому себе, – что гений, ожесточенный зрелищем наших бедствий, предается столь прискорбным капризам!.. Как же в таком случае заблуждается толпа, упрекая в них Провидение!..
Все, что я смог извлечь из механической диатрибы, помимо более чем внятного рефрена, который повторялся довольно регулярно, заключалось в следующем: если я видел в моей прошлой безупречной жизни доказательство моей невиновности, прокурор основывал сокрушительные обвинения на совершенных мною в этой прежней жизни преступлениях, мне, впрочем, неизвестных. Я, однако, не смог бы воспроизвести ту дикую гармонию, какую сообщало его речам судорожное и хриплое прищелкивание языком, решительно чуждое нашему речевому аппарату, которое постоянно прерывало обвинительный монолог и уподобляло его скрипу плохо смазанной двери.
– Как же, как же! Чистая и невинная юность! – СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! На этом я настаиваю! – Поверь им, так ни один из них не заслужил виселицы; на что же нам в таком случае кодекс о наказаниях? на что правосудие? на что трибуналы? на что СМЕРТЬ?
– Я прошу вас, господа, прежде чем вы снова заснете, принять к сведению, что я требую СМЕРТИ. Хотя быстрое ведение следствия не позволило нам в полной мере раздуть дело приговоренного (я хотел сказать: обвиняемого; впрочем, это одно и то же), у нас есть довольно непреложных – или не совсем ложных – или просто удобных – доказательств, способных убедить милосердный суд в том, что, прежде чем запятнать себя тем чудовищным преступлением, в котором его обвиняют, злодей постоянно совершал поступки отвратительные, предосудительные и достойные повешения, из коих даже самый извинительный все равно достоин СМЕРТИ. СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! СМЕРТЬ! – и прощу вас больше к этому вопросу не возвращаться. Этот негодяй в самом деле находится под тяжелейшим подозрением – ибо из дела неопровержимо явствует, что, обещав жениться, он соблазнил несчастную женщину и мошеннически изъял у нее портрет и драгоценности, обманув тем самым ее доверие и похитив ее невинность! Дабы не злоупотреблять терпением досточтимого суда, в интересах человечности я буду краток. Я требую СМЕРТИ!
И кровавые губы, оскалившиеся в убийственной гримасе, медленно сжались, словно острые стальные тиски, с каждым движением рукоятки подступающие все ближе и ближе к тому месту, в которое они должны вонзиться.
– О развращенность века упадка! – промычал веселый толстяк-председатель, воздев маленькие ручки так высоко, как он только мог, а именно до нижнего края судейской шапочки, покрывавшей ту часть его головы, где, возможно, находился мозг и которую с двух сторон окаймляли пурпурные флаги его широких ушей.
– Итак, мы дожили до бедственных времен, предсказанных пророками! В годы нашей молодости юноши, еще не достигшие совершеннолетия, не делали ложных и обманных предложений представительницам слабого и фантастического пола и не злоупотребляли таким образом их доверчивостью! Да и среди совершеннолетних это позволяли себе лишь люди благородного происхождения! Похищение! Присвоение! Преднамеренное убийство! О скорбь из скорбей! Тем не менее поскольку было бы необычно, неприлично и, главное, физически невозможно повесить вышеуказанного индивида, имя коего я забыл, трижды, я требую, чтобы он был повешен как можно выше незамедлительно, если же у кого-то есть возражения, мы обсудим их на следующем заседании. Но торопитесь, торопитесь, черт возьми: non festina lente, [118] сплетайте поскорее свои филантропические и сентиментальные периоды, господа адвокаты, ведь сегодня, если я не ошибся в подсчетах, нам предстоит сбыть с рук не меньше двадцати подобных негодяев, а мне известно, что мы заседаем, исполняя с подобающей кротостью наши отеческие обязанности, a diliculo primo, [119] выражаясь словами Цицерона, иначе говоря, господа, с тех пор как юная Аврора отворила розовыми перстами врата Востока. Как ни приятно исполнять свой долг, все время вешать – скучно.