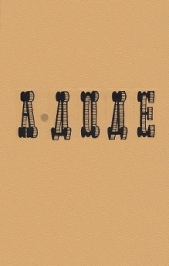Нума Руместан

Нума Руместан читать книгу онлайн
"Нума Руместан" носил предварительное название "Север и Юг", в романе Доде хотел показать французский "Юг помпезный, классический, театральный, обожающий зрелища, костюмы, подмостки, пышные султаны, фанфары и знамена, плещущиеся по ветру… Юг вкрадчивый и льстивый с его красноречием, самозабвенным и ослепляющим, но бесцветным, потому что цвет, краски — удел Севера, — с его короткими и страшными вспышками гнева, которые сопровождаются топаньем оного и всегда неестественными ужимками… А главное, с его воображением — оно является самой характерной чертой тамошней породы людей…" Доде хотел противопоставить свой родной Юг Северу с его уравновешенностью, здравомыслием и хладнокровием, воплощение которых представляют собой в книге отец и дочь Ле Кенуа, тогда как душевные свойства южанина воплощены в Руместане и Бомпаре.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Внезапно покинув, почти оттолкнув дорогого гостя, которому он только что потихоньку наобещал кучу всяких благ, министр устремлялся навстречу важной даме с красным лицом и горделивой осанкой.
— Ах, госпожа маршальша!
Он брал августейшую руку, затянутую в перчатку о двадцати пуговицах, и вел высокородную посетительницу из гостиной в гостиную сквозь двойную шеренгу почтительно склоненных черных фраков до концертного зала, где гостей встречали г-жа Руместан с сестрой. Возвращаясь оттуда, он снова пожимал руки, с самым милым видом говорил: «Можете быть уверены… Это — дело решенное», или торопливо бросал: «Приветствую вас, друг мой», или же, с целью придать сегодняшнему приему больше теплоты, оживить светскую торжественность тоном взаимной симпатии, знакомил людей, без предупреждения бросая их в объятия друг друга:
— Как, вы не знакомы?.. Князь Ангальтский… Господин Бос, сенатор…
И не замечал, что, едва он произнес их имена, как оба гостя, раскланявшись, ждали потом только его ухода, чтобы со свирепым видом повернуться друг к другу спиной.
Как большинство участников политической борьбы, Нума, добившись победы, добравшись до власти, несколько размяк. Продолжая быть сторонником «нравственного порядка», вандеец-южанин уже не так пылал интересами дела,он предоставлял великим упованиям мирно дремать и склонен был думать, что и сейчас все идет не так уж плохо. К чему порядочным людям ненавидеть друг друга? Он желал умиротворения, всеобщей терпимости и рассчитывал, что музыка будет способствовать установлению взаимопонимания между партиями, что его «концертики» раз в две недели явятся нейтральной почвой, где, вкушая эстетическое наслаждение и проявляя взаимную учтивость, даже самые непримиримые противники будут отдавать друг другу должное, отбросив политические страсти и треволнения. Оттого-то гости, приглашенные на вечер, и представляли собою столь странную смесь, оттого им всем было как-то не по себе, как-то неловко, оттого в разных углах гости шептались друг с другом, а потом вдруг умолкали, оттого черные фраки молча бродили взад и вперед, оттого рассеянные взоры с деланным вниманием устремлялись к потолку и разглядывали позолоту простенков, орнаменты эпохи Директории, наполовину в стиле Людовика XVI, наполовину ампирные, плоские бронзовые головы, украшавшие прямолинейную мраморную оснастку каминов. Всем было и жарко и холодно, словно ужасный мороз на улице, укрощенный толстыми стенами с плотной и мягкой обивкой, превратился во внутренний холод. Порою в это монотонное хождение скучающих людей врывался бешеный галоп де Рошмора и де Лаппара, которым поручено было рассаживать дам, или же производило сенсацию появление красавицы г-жи Юблер с перьями в пышной прическе, с суховатым профилем и застывшей улыбкой небьющейся куклы из витрины парикмахера. Но вскоре атмосфера опять замораживалась.
— Сам черт не разогреет этих гостиных Народного просвещения… Сюда, наверное, приходит по ночам призрак Фрейссину. [25]
Эту мысль высказал вслух кто-то из молодых музыкантов, толпившихся вокруг директора Оперы Кадайяка, с философическим видом рассевшегося на бархатной скамье спиной к статуе Мольера. Тучный, полуглухой, с белой щетиной усов, он ничем не напоминал гибкого, подвижного импрессарио празднеств Набоба. — теперь он превратился в величественного идола с раздувшейся, но непроницаемой маской вместо лица, и только глаза свидетельствовали о том, что это на самом деле балагур — парижанин, хорошо знающий жизнь и потому жестоко проницательный, с умом, подобным трости с железным наконечником, закаленным на огнях рампы. Однако, вполне удовлетворенный достигнутым, сытый, больше всего боявшийся, как бы его не сместили с директорского поста, он не выпускал когтей, говорил немного, особенно здесь, и ограничивался тем, что подчеркивал свои наблюдения над разыгравшейся вокруг официальной и светской комедией безмолвным смехом Кожаного Чулка.
— Буассарик, дитя мое! — тихо сказал он молодому интригану-тулузцу, которому удалось недавно поставить в Опере свой балет после того, как партитура пролежала там под сукном всего-навсего лет десять, чему никто не хотел верить. — Буассарнк! Ты ведь все знаешь, скажи мне, как зовут вон того важного усача, который развязно беседует решительно со всеми и выступает вслед за своим носом с таким сосредоточенным вит дом, будто находится на похоронах этой своей принадлежности… По-видимому, он здесь свой человек, он разговаривал со мной о театре безапелляционным тоном.
— Не думаю, патрон… Скорее он дипломат. Я слышал, как он только что говорил бельгийскому послу, что они долгое время были коллегами.
.— Вы ошибаетесь, Буассарик… Должно быть, это какой-нибудь иностранный генерал. Несколько минут назад он разорялся в компании толстых эполет и, между прочим, громко сказал: «Только человек, которому никогда не приходилось командовать крупными воинскими соединениями…»
— Странно!
Спросили проходившего мимо Лаппара. Тот рассмеялся:
— Да ведь это же Бомпар!
— Это еще кто такой?
— Приятель министра… Как же это вы его не знаете?
— Южанин?
— Еще бы!..
И действительно, Бомпар, затянутый в великолепный новый фрак с бархатными отворотами, с перчатками, засунутыми за борт жилета, старался оживить вечер своего друга тем, что все время поддерживал оживленнейшую беседу с самыми разнообразными людьми. Впервые появившись в высшем чиновном мире, где его никто не знал, он, можно сказать, произвел сенсацию, щеголяя то в одной, то в другой группе гостей своей способностью к выдумке, своими огнедышащими видениями, рассказами о любовных похождениях с принцессами крови, приключениях и сражениях, триумфах на швейцарских стрелковых состязаниях, — все это вызывало на окружавших его лицах выражение изумления, смущения и беспокойства. Конечно, это вносило известную струю веселья, но оценить ее могли только те немногие, кто знал, с кем имеет дело, и это не могло рассеять скуку, проникавшую даже в концертный зал — громадное и очень живописное помещение с двумя ярусами и стеклянным потолком, который напоминал открытое небо.
Зелень декоративных растений — пальм, бананов с длинными листьями, неподвижными в свете люстр, — создавала некий естественный фон туалетам женщин, тесными рядами сидевших на бесчисленных рядах стульев. Переливной волной склонялись шеи, плечи и руки, выступавшие из корсажей, словно на полураскрытой чашечки махрового цветка, прически, на которых звездами сверкали бриллианты в синеватом отблеске черных и золотом мерцании белокурых волос.
Рисовались округлыми линиями от талии до шиньонов очертания полных фигур, и линиями легкими, устремленными ввысь от пояса, стянутого блестящей пряжечкой, до длинной шейки, перехваченной бархоткой, торсы изящно-худощавые. Надо всем этим трепетали, порхали раскрытые пестрые, усеянные блестками крылья вееров, примешивая аромат духов White rose [26]и опопанакса к слабому дыханию живых цветов — белой сирени и фиалок.
Напряженность на лицах гостей еще усиливалась перспективой неподвижно просидеть два часа перед эстрадой, где с самым невозмутимым видом, словно на них навели объектив фотоаппаратов, полукругом расположились хористы в черных фраках и в пышных платьях из белого муслина, и оркестр, замаскированный купами зеленых растений и роз, из-за которых высовывались грифы контрабасов, похожие на орудия пытки. О, эта пытка шейной колодкой музыки! Она всем им была так хорошо знакома, ибо числилась в расписании их зимних мучений, их тяжких светских повинностей. Вот почему, хорошенько поискав, во всем огромном зале можно было найти только одно довольное, улыбающееся лицо — это было лицо г-жи Руместан. И улыбка ее не была сценической улыбкой балерины, которую часто видишь на лицах хозяек дома и которая так легко превращается в гримасу озлобления и усталости, когда улыбающаяся хозяйка чувствует, что на нее не смотрят, — нет, на лице Розали играла улыбка женщины счастливой, женщины любимой, вновь начинающей по-настоящему жить. О неистощимая нежность сердца, любившего всего один раз! Розали снова начала верить в своего Нуму, с некоторых пор опять ставшего добрым и нежным. Это похоже было на возвращение, на ласковое сближение двух сердец, соединившихся после долгой разлуки. Не стараясь углубляться в то, чему она обязана возвратом его нежности, она снова видела мужа любящим и юным, как в тот вечер, перед панно, изображавшим охоту, и она снова была Дианой, соблазнительной, гибкой, тонкой, в белом атласном платье, с каштановыми волосами, причесанными на пробор и обрамлявшими ясное чело, чуждое дурных помыслов, так что в свои тридцать лет она казалась двадцатипятилетней.