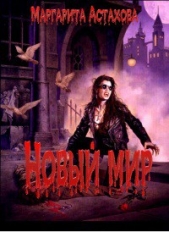Бледное пламя

Бледное пламя читать книгу онлайн
Роман, задуманный Набоковым еще до переезда в США (отрывки «Ultima Thule» и «Solus Rex» были написаны на русском языке в 1939 г.), строится как 999-строчная поэма с изобилующим литературными аллюзиями комментарием. Данная структура была подсказана Набокову работой над четырехтомным комментарием к переводу «Евгения Онегина» (возможный прототип — «Дунсиада» Александра Поупа).
Согласно книге, комментрируемая поэма принадлежит известному американскому поэту, а комментарий самовольно добавлен его коллегой по университету. Коллега, явно сумасшедший, видит в поэме намёки на собственнную судьбу — беглого короля Земблы. В этой несуществующей стране произошла революция, и король бежал в Америку.
(Т.е. интерактивный комментарий к поэме является фактически основной частью романа и должен быть прочитан обязательно, также как и написанное самим Набоковым "Предисловие" и составленный им же "Указатель". Примечания (ссылки в квадратных скобках) добавлены переводчиком.)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он обождал, пока силуэт стражника возникнет в свете двора, где прочие фуляки радостно приняли его в игру. Тогда, в безопасной тьме, король покопался в одеждах на донышке шкапа и натянул поверх пижамы нечто, на ощупь сошедшее за лыжные брюки, и что-то еще, пахнувшее старым свитером. Дальнейшие раскопки наградили его парой теннисных туфель и шерстяной шапкой с наушниками. И король приступил к тому, что уже отрепетировало воображение. Когда он снимал вторую полку, что-то, мелко стукнув, упало, он догадался — что — и подобрал, пусть будет талисманом.
Нажать кнопку фонарика, не погрузившись вполне, он не посмел, не мог он позволить себе и шумно споткнуться, а потому одолел восемнадцать незримых ступеней более или менее сидя, будто пугливый новичок, что на заду съезжает по мшистым камням Маунт-Крона. Тусклый свет, наконец испущенный фонарем, был теперь его драгоценнейшим спутником, — дух Олега, призрак свободы. Он ощущал смесь восторга и тревоги, род любовной радости, в последний раз испытанный им в день коронации, когда при подходе к трону несколько тактов сочной, сильной и полнозвучной музыки (ни автора ее, ни физического источника он так никогда и не установил) поразили его слух, и он вдохнул аромат помады хорошенького пажа, склонившегося, чтобы смахнуть с ножной скамейки розовый лепесток, и в свете фонаря король ныне увидел себя облаченным в уродливо яркий багрец.
Потайной ход, казалось, еще опустился. Вторжение окружения стало намного заметней, чем в день, когда двое подростков, исследуя ход, дрожали в безрукавках и шортах. Лужа переливчатой ровной воды удлинилась, вдоль ее берега брела, словно хромец со сломанным зонтом, больная летучая мышь. Памятная россыпь цветного песка хранила тридцатилетней давности рубчатый оттиск олеговых башмаков, бессмертный, как след ручной газели египетского ребенка, тридцать столетий назад оставленный на синеватых нильских кирпичах, подсыхавших на солнце. А там, где ход прорезал фундамент музея, неведомо как очутилась сосланная и забытая безголовая статуя Меркурия, сопроводителя душ в Нижний Мир, и треснувший кратер с двумя черными фигурками, играющими под черной пальмой в кости.
В последнем колене прохода, упиравшемся в зеленую дверь, валялись грудой какие-то хлипкие доски, беглец, спотыкаясь, прошел по ним. Он отпер дверь и, потянув ее, застрял в тяжелой черной завесе. Едва зарылся он в ее вертикальные складки, ища какого-либо прогала, как слабый фонарь закатил беспомощное око и угас. Он разжал ладонь, и фонарик ухнул в глухую пустоту. Король вонзил обе руки в глубокие складки пахнущей шоколадом ткани и, несмотря на неверность и опасность этой минуты, его движение физически, если так можно выразиться, напомнило ему о смешных, сперва разумных, а после отчаянных колыханиях театрального занавеса, сквозь который тщетно пытается прорваться занервничавший актер. Это гротескное ощущение — и в такую дьявольскую минуту — разрешило тайну прохода еще до того, как он все же выбрался из завесы в тускло освещенную, полную тусклого хлама lumbarkamer, бывшую некогда гримерной Ирис Акт в Королевском театре. Она так и осталась тем, чем стала после смерти актрисы: пыльной дырой, сообщающейся с подобием зальчика, где иногда околачивались в дни репетиций актеры. Куски мифологических декораций, прислоненных к стене, наполовину скрыли большое фото короля Тургуса в бархатной раме, — таким он был в ту пору, когда проход в милю длиной служил экстравагантным пособником его свиданий с Ирис.
Беглец, облаченный в багрец, проморгался и выбрался в зальце. Двери многих гримерных выходили сюда. Где-то за ними взревела буря оваций и стихла. Иные, далекие звуки обозначили начало антракта. Несколько костюмированных исполнителей прошло мимо короля, в одном из них он признал Одона. На Одоне был бархатный камзол с медными пуговицами, бриджи и полосатые чулки — воскресный наряд гутнийского рыбаря, — кулак все еще сжимал картонный кинжал, которым он только что разделал свою милашку. "Господи, помилуй", — сказал он, узрев короля.
Выхватив их кучи фантастических одеяний два плаща, Одон подтолкнул короля к ведущей наружу лестнице. Одновременно в кучке людей, куривших на лестничной площадке, произошло смятение. Старый интриган, сумевший, умаслив различных чинуш-экстремистов, добиться поста главного режиссера, ткнул в короля дрожащим перстом, но будучи ужасным заикой, так и не смог выдавить слов гневного узнавания, от которых клацали его фальшивые челюсти. Король попытался натянуть козырек шапки на лицо, — и едва не упал на нижних ступенях узенькой лестницы. Снаружи лил дождь. Лужа отразила карминный его силуэт. Несколько машин стояло в поперечном проулке. Здесь Одон обыкновенно оставлял свой гоночный автомобиль. На один страшный миг ему показалось, что машину угнали, но тут же он с исключительным облегчением вспомнил, что нынче поставил ее на соседней улице. (Смотри интересные заметки к строке 149 .)
28
Строки 131-133: Я тень, я свиристель, убитый влет поддельной далью, влитой в переплет окна
Здесь вновь подхвачена изысканная мелодия двух открывающих поэму строк. Повторение этой протяжной ноты спасено от монотонности тонкой вариацией в 132-й строке, где обратный ассонанс между первым ее словом и рифмой дарит нашему уху своеобразное томное наслаждение, подобно отзвуку полузабытой грустной песни, в напеве которой значения больше, чем в словах. Ныне, когда "поддельная даль" и в самом деле исполнила ужасное ее назначение, и поэма, оставленная нам, — это единственная уцелевшая "тень", мы невольно прочитываем в этих стихах нечто большее простой игры отображений и дрожи миража. Мы ощущаем, как судьба в обличии Градуса милю за милей пожирает "поддельную даль", лежащую между ним и несчастным Шейдом. Тоже и ему предстояло в слепом и упорном полете встретиться с отражением, что разнесет его на куски.
И хотя Градус пользовался всеми доступными средствами передвижения — наемными автомобилями, пригородными поездами, эскалаторами, аэропланами, — почему-то мысленно видишь его и мышцей рассудка ощущаешь как бы вечно несущимся по небу с черным чемоданом в одной руке и неряшливо свернутым зонтом в другой, в долгом скольжении над морем и сушей. Сила, что переносит его, — это волшебное действие самой поэмы Шейда, само устройство и ход стиха, мощный двигатель ямба. Никогда прежде неумолимость поступи рока не обретала столь ощутимой формы (иные образы приближения этого трансцендентального шатуна можно найти в примечаниях к строке 17 ).
29
Строка 137: лемниската
"Уникурсальная бициркулярная кривая четвертого порядка", — сообщает мой старый усталый словарь. Я не способен понять, что тут может быть общего с ездой на велосипеде, и подозреваю, что фраза Шейда не имеет сущностного смысла. Как многие поэты до него, он, видимо, поддался очарованию обманчивой эвфонии.
Вот вам разительный пример: что может быть благозвучней и ослепительней, что более способно породить представление о звуковой и пластической красоте, чем слово coramen? Между тем, оно обозначает по-просту сыромятный ремень, которым земблянский пастух торочит жалкую свою снедь и лоскутное одеяло к крупу самой смирной из своих коров, когда перегоняет их на vebodar (горный выпас).