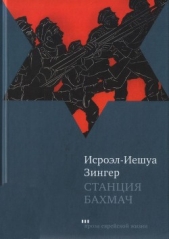Семья Карновских

Семья Карновских читать книгу онлайн
В романе одного из крупнейших еврейских прозаиков прошлого века Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) «Семья Карновских» запечатлена жизнь еврейской семьи на переломе эпох. Представители трех поколений пытаются найти себя в изменчивом, чужом и зачастую жестоком мире, и ломка привычных устоев ни для кого не происходит бесследно. «Семья Карновских» — это семейная хроника, но в мастерском воплощении Исроэла-Иешуа Зингера это еще и масштабная картина изменений еврейской жизни в первой половине XX века. Нобелевский лауреат Исаак Башевис Зингер называл старшего брата Исроэла-Иешуа своим учителем и духовным наставником.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Фрау Гольбек ничего не имела против евреев. За покупками она ходила в еврейские магазины, там дешевле. Когда ребенок болел, а домашний врач ничего не мог поделать, она приглашала профессора-еврея. Как многие в городе, она считала, что евреи лучше разбираются в медицине. Йоахим Гольбек хранил сбережения в еврейском банке и там же приобретал ценные бумаги. Тем не менее супруги чувствовали в евреях что-то чужое и относились к ним не без опаски, как, например, к актерам: хоть они и доставляют радость, лучше держаться от них подальше.
Но к оптику Дрекслеру госпожа Гольбек испытывала особую неприязнь. Соседки рассказывали, что он продает не только очки и термометры, но и такие запрещенные штучки, которые помогают избавиться от нежелательного ребенка. Фрау Гольбек, родившая и похоронившая нескольких детей, ненавидела женщин, избегающих материнского долга. Поэтому она с подозрением смотрела на нарядного Дрекслера, который, говорят, продает такие ужасные вещи. В витрине оптики стояла восковая фигура обнаженной женщины в синих очках, резиновых чулках, бюстгальтере и с поясом, поддерживающим отвисший живот. Каждый раз, проходя мимо, фрау Гольбек испытывала стыд и негодование. Фигура напоминала ей о ее собственном теле, изувеченном возрастом и родами. Почему полиция не запретит ставить такие непристойные манекены?
Но еще хуже были шутки Дрекслера. И госпожа Гольбек, и ее муж чувствовали себя беспомощными, неуклюжими и глуповатыми рядом с элегантным, подвижным и остроумным оптиком. Анекдоты не всегда были про Кона и Леви, иногда место Леви занимал Шмидт. При этом герр Кон оказывался не очень порядочным, зато герр Шмидт — очень глупым. Гольбекам становилось неловко, даже неспокойно, они чувствовали, что над ними смеются. Когда Дрекслер уходил, они вздыхали свободно.
— Ну, этот Дрекслер! — говорила фрау Гольбек, когда оптик уже не мог ее слышать.
— Да, этот Дрекслер… — вторил герр Гольбек, раскуривая погасшую сигару.
Кто такой этот Дрекслер, они не уточняли, и без лишних слов было ясно. Фрау Гольбек с радостью возвращалась к вязанию, а герр Гольбек к биржевым сводкам в газете. У ног фрау Гольбек лежал жирный и коротконосый, очень похожий на хозяйку бульдог. Это был тихий и воспитанный пес, он никогда не осмеливался поиграть с упавшим на ковер клубком, хоть ему и очень этого хотелось. Супругам Гольбек было хорошо и спокойно. Покоем дышали массивная мебель, толстые стены, плотные шторы на окнах и надежно запертые двери, через которые не мог войти ни один незваный гость. Ни несчастье, ни преступление, ни болезнь не могли проникнуть сквозь надежные стены в дома Гольбеков недалеко от Зоопарка.
Война смогла.
Сначала Гуго, единственного сына, призвали в армию и отправили на Западный фронт. Потом госпоже Гольбек перестали подавать к кофе взбитые сливки, как она любила. Потом мясо стали есть не каждый день, а через день. Расписные фарфоровые тарелки становились все больше, а порции на них все меньше. Кофе стали варить из желудей, хлеб намазывать не маслом, а невкусным мармеладом. Росли налоги. Жильцы задерживали плату, бывало, на целые месяцы. Каждое утро, одеваясь, Йоахим Гольбек замечал, что жилетка сидит на нем все свободней. Дочь Тереза забросила домашние дела, вышивание, вязание и записалась на курсы сестер милосердия, чтобы поступить на работу в госпиталь. С фронта приходили вести о поражениях, в стране начались волнения и беспорядки. Район заполонили люди, которых тут раньше в глаза не видели. Они приходили из предместий, из Нового Кельна, плохо одетые, с красными флагами, и так шумели, что их крики проникали сквозь толстые стены и тяжелые шторы. Кроме шума и красных флагов, они принесли всевозможные болезни: дифтерит, тиф, дизентерию и особенно появившуюся вместе с войной испанку. Первым заболел сам хозяин Йоахим Гольбек и через три дня скончался, несмотря на то что Тереза ни на шаг не отходила от его постели.
Справив траур, вдова Гольбек собрала все счета, бухгалтерские книги, облигации, векселя, расписки, оставшиеся от мужа, и передала их единственному мужчине в доме — сыну Гуго, который вернулся с Западного фронта. Но он понятия не имел, что с этим делать. Долговязый, нескладный, очень светлокожий и светловолосый, он все еще носил военную форму: широкие галифе, высокие желтые ботинки и приталенную офицерскую куртку с наградным знаком и светлыми пятнами на месте срезанных эполет. Обер-лейтенант Гуго Гольбек ничего не понимал в бухгалтерии, счетах и векселях. Единственной профессией, которой он овладел, было военное дело. Но война кончилась, и теперь он не знал, куда себя деть. На улицу, кишевшую демобилизованными солдатами и прочим отребьем, выходить не хотелось. Целыми днями Гуго, вытянув длинные ноги, сидел в низком кресле, курил сигарету за сигаретой, насвистывал и играл с верным псом, который прошел с ним всю войну от начала до конца. Когда надоедало играть с собакой, он, зевая от скуки, забавлялся с револьвером или биноклем — единственными вещами, которые остались у него после войны, если не считать боли в отмороженной ноге. Иногда вдова Гольбек пыталась занять его делом:
— Гуго, надо бы продать ценные бумаги, они всё падают.
— И что? — нехотя отвечал Гуго, не вставая с кресла.
— Гуго, надо собрать плату с жильцов. Никто платить не хочет.
— И что?
— Гуго, ничего не купить, все в дефиците.
— И что?
Увидев, что единственный мужчина в доме ко всему слеп и глух, Тереза принялась искать работу. Когда-то мать обучила ее всему, что должна уметь девушка из порядочной семьи. У Терезы был диплом лицея, она хорошо шила, вязала и играла на пианино, в общем, обладала всяческими достоинствами. Но единственное, что она смогла найти, это место сиделки в частной клинике профессора Галеви на Кайзер-аллее.
Когда Гуго от матери узнал об этом, он не только сказал свое обычное «и что?», но еще добавил грубое солдатское слово в адрес чертовых рожениц, за которыми Тереза Гольбек должна будет выносить судна.
Госпожа Гольбек покраснела:
— Гуго, тебе не стыдно? При матери!
Гуго рассматривал носы своих ботинок, будто видел их в первый раз. Он чувствовал себя виноватым перед Терезой: из-за него ей придется ухаживать за роженицами, да еще у профессора-еврея. Но больше ему нечего было сказать. Так он и продолжал сидеть в кресле, долговязый, нескладный, бледный и ленивый. А пес лизал его желтые ботинки, из которых до сих пор не выветрился запах пороха и крови.
Георг Карновский вернулся с Восточного фронта тоже с наградным знаком и в чине капитана медицинской службы. Но после демобилизации он не носил мундир ни одного дня. Парикмахер очень хотел сделать Георгу короткую стрижку, которая была в моде у отставных военных, но Георг отказался наотрез. Он даже ни разу не надел армейские ботинки, пропахшие войной и смертью.
Дело было не в том, что Георг Карновский не переносил запаха крови и гнили, как в студенческие годы. Он пропитался им за несколько лет службы на перевязочных пунктах, в лазаретах и госпиталях, надышался смертью. Его смуглые, жилистые руки, поросшие черным волосом, ампутировали солдатские ноги, вскрывали животы, вычищали гной из ран. Его уши слышали вопли, стоны и проклятия раненых, которых оперировали без наркоза, и хрип умирающих. Его черные, блестящие глаза видели жестокость, страх, надежду, сомнения, но чаще всего — смерть. Нет, теперь он не испытывал тошноты от запаха гнили, как когда-то. Но отвращение осталось и с каждым днем становилось сильнее. Георг старался забыть войну. Ему даже не хотелось говорить о ней с родителями.
А Лея хотела знать все до мелочей. Она целовала его загорелые, обветренные щеки, гладила крепкие, мозолистые ладони, не могла насмотреться на него, словно не верила, что снова видит сына. В ней опять проснулась материнская нежность, и она разговаривала с ним, как с маленьким ребенком, будто много лет назад, когда она носила его на плечах по комнатам, а он целовал мезузы перед сном.
— Маленький мой, счастье мое, Мойшеле, — называла она его домашним именем, — ну, расскажи маме, как ты там жил.