Леда без лебедя
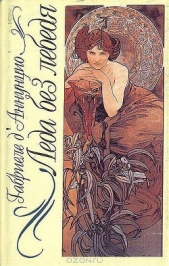
Леда без лебедя читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие произведения итальянского прозаика, драматурга и поэта конца XIX — начала XX веков Габриеле Д’Аннунцио (1863–1938), которые в свое время потрясли умы, шокировали общественную мораль и буквально «взорвали» мирную литературную Италию. Среди них — роман «Невинный» (1892), известный в нашей стране по знаменитому фильму Лукино Висконти; впервые переведенная на русский язык повесть «Леда без лебедя» (1916) — притча о внезапной страсти к таинственной незнакомке, о загадке ее роковой судьбы; своеобразное переложение Евангелия — «Три притчи прекрасного врага» (1924–1928), а также представленные в новых переводах рассказы.
Сост. В. В. Полев и Н. А. Ставровская; Авт. предисл. 3. М. Потапова.
На суперобложке использовано декоративное панно чешского художника А. Мухи «Изумруд».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, да.
— Иногда ночью, тогда, ты говорила во сне. Как я любил это. Ах, этот голос! Ты не можешь понять этого… Ты не могла слышать этот голос, его знаю только я, я один… И я вновь услышу его. Кто знает, что он скажет! Может быть, ты назовешь мое имя. Как я люблю движение твоих губ, когда они произносят «у» моего имени; оно кажется контуром поцелуя… Ты знаешь это? Я шепну тебе на ухо какое-нибудь слово, чтобы войти в твои сновидения. Помнишь, тогда, по утрам, я, бывало, отгадывал кое-что из того, что тебе снилось? О, ты увидишь, дорогая моя: я буду еще ласковее, чем раньше. Ты увидишь, на какую нежность я буду способен, чтобы излечить тебя. Ты нуждаешься в такой нежности, моя бедняжка…
— Да, да, — все повторяла она, словно бессознательно, и этим поддерживала во мне мою иллюзию и усиливала то опьянение, в которое повергали меня звуки моего собственного голоса и уверенность в том, что мои слова, как страстная песнь, убаюкивают ее.
— Ты слышишь? — спросил я ее, слегка приподымаясь, чтобы лучше расслышать.
— Что, Федерико идет?
— Нет, послушай.
Мы стали слушать, глядя на сад.
Сад превратился в туманную фиолетовую массу, еще прорезанную темным сверканием бассейна. Полоса света все еще держалась на краю неба. Это была широкая, трехцветная лента: кровавая внизу, затем оранжевая и, наконец, зеленая — цвета умирающего растения. В тишине сумерек раздавался чистый и сильный голос, подобный переливам флейты.
Пел соловей.
— Он на иве, — шепнула мне Джулиана.
Мы оба слушали, глядя на последнюю полосу, которая бледнела под неосязаемым пеплом вечера. Душа моя насторожилась, словно от этой песни ожидая какого-то откровения любви. Что испытывала в это время, рядом со мной, бедная Джулиана? Какой вершины скорби достигла ее истомленная душа?
Соловей пел. Сначала это был словно взрыв мелодического ликования, струи легких трелей, которые упали в воздух, звеня, как жемчужины, подскакивающие на клавишах гармоники. Наступила пауза. Раздался колоратурный пассаж, легкий-легкий, необыкновенно продолжительный, как бы для того, чтобы испытать свои силы, дать выход своей отваге, бросить вызов неведомому сопернику. Вторая пауза. Тема из трех нот, звучащая как вопрос, прошла сквозь цепь легких вариаций, пять или шесть раз повторив свой маленький вопрос, модулируя словно на тонкой тростниковой флейте или на свирели пастуха. Третья пауза. Песня приняла элегический характер, перешла в минорный лад, сделалась сладостной, как вздох, слабой, как стенание, выразила тоску одинокого влюбленного, истому желания, несбывшуюся мечту; прозвучала последняя жалоба, внезапная, острая, как вопль отчаяния, и затихла. Опять пауза, более значительная. И вдруг раздались новые звуки, которые, казалось, не могли исходить из того же горла, такие они были покорные, робкие, жалобные, так походили они на щебетание новорожденных птенцов, на чириканье воробушка; потом, с поразительной быстротой, этот наивный напев перешел в стремительный, все ускоряющийся поток звуков, которые сверкнули воздушными трелями, полились самыми смелыми пассажами, затихли, снова выросли и поднялись к горным вершинам. Певец опьянялся своей песнью. Делая паузы, такие короткие, что звуки, казалось, не успевали потухнуть, он изливал свой экстаз в бесконечно меняющихся мелодиях, страстных и нежных, покорных и ликующих, легких и многозначительных, прерываемых то слабыми стонами и жалобными возгласами, то внезапными лирическими порывами и страстными призывами. Казалось, что и сад прислушивался к этой песне, что небо склонилось над тоскующим деревом, на вершине которого скрытый от взоров поэт изливал эти потоки поэзии. Чаща цветов дышала глубоко, но безмолвно. Желтая полоса света еще блестела на западном краю неба; и этот прощальный взгляд дня был грустный, почти зловещий. Блеснула звезда, живая и трепетная, как капля сверкающей росы.
— Завтра! — прошептал я, бессознательно отвечая на невысказанный мною вопрос этим словом, содержащим для меня столько обещаний.
Чтобы слушать, мы приподнялись немного и некоторое время оставались в таком положении; и вдруг я почувствовал, как голова Джулианы тяжело, словно неодушевленный предмет, упала мне на плечо.
— Джулиана! — крикнул я в ужасе. — Джулиана!
И от моего движения голова Джулианы откинулась назад, тяжело, как неодушевленный предмет.
— Джулиана!
Она не слышала. Я увидел мертвенную бледность ее лица, которое освещали последние, желтоватые лучи, проникавшие с балкона, и странная мысль пронизала меня. Вне себя от ужаса, я положил неподвижную Джулиану на спинку кресла и, не переставая звать ее по имени, принялся судорожными пальцами расстегивать ее платье на груди, торопясь послушать сердце.
И вдруг я услышал веселый голос моего брата:
— Голубки, где же вы?
Сознание скоро вернулось к Джулиане. Как только она почувствовала, что может держаться на ногах, она пожелала тотчас же сесть в экипаж и вернуться в Бадиолу.
И вот, укутанная нашими пледами, съежившись, молча сидела она на своем месте. Мы с братом время от времени поглядывали друг на друга в беспокойстве. Кучер погонял лошадей. И частый топот лошадиных копыт звучно раздавался по дороге, окаймленной кустами, которые там и сям были покрыты цветами. В этот мягкий апрельский вечер небо было безоблачным.
То и дело мы с Федерико обращались к ней с вопросом:
— Как ты себя чувствуешь, Джулиана?
Она отвечала:
— Ничего… немного лучше.
Тебе холодно?
— Да… немного. — Она отвечала с явным усилием. Казалось, наши вопросы раздражали ее, и, когда Федерико во что бы то ни стало хотел завязать разговор, она сказала: — Прости, Федерико… Мне трудно говорить.
Верх экипажа был поднят, и Джулиана сидела в темноте, закутанная и неподвижная. Я то и дело наклонялся к ней, чтобы заглянуть ей в лицо, думая, что она заснула, или боясь, как бы она снова не упала в обморок. И каждый раз я испытывал то же чувство ужаса, видя, как ее широко открытые глаза смотрят в одну точку.
Наступило долгое молчание; мы с Федерико тоже замолкли. Мне казалось, что лошади бегут недостаточно быстро; я готов был приказать кучеру заставить их мчаться галопом.
— Погоняй, Джованни.
Было около десяти часов, когда мы приехали в Бадиолу. Моя мать дожидалась нас, встревоженная нашим опозданием. Увидя Джулиану в таком состоянии, она сказала:
— Я так и думала, что эта тряска повредит тебе.
Джулиана хотела ее успокоить:
— Ничего, мама… Ты увидишь, завтра я буду вполне здорова. Я немного утомлена…
Но, увидя ее при свете лампы, моя мать в ужасе воскликнула:
— Боже мой, Боже мой! На тебя страшно смотреть!.. Ты едва стоишь на ногах… Эдит, Кристина, скорее, скорее, идите согреть ей постель… Иди сюда, Туллио, отнесем ее наверх…
— Да нет же, нет, — противилась Джулиана. — Не пугайся, мама… это пустяки…
— Я сейчас же съезжу в Тусси за врачом, — предложил Федерико. — Через полчаса я буду здесь.
— Не надо, Федерико, не надо! — крикнула Джулиана с каким-то отчаянием в голосе. — Я не хочу. Врач ничего не может сделать. Я сама знаю, что мне нужно принять. У меня все есть, наверху. Пойдем, мама. Боже мой! Как скоро вы начинаете волноваться! Пойдем, пойдем…
И казалось, она сразу обрела силу. Несколько шагов она сделала без посторонней помощи. На лестнице мы с матерью поддерживали ее. В комнате у нее началась судорожная рвота, продолжавшаяся несколько минут. Женщины начали раздевать ее.
— Уходи, Туллио, уходи, — просила она меня. — Ты после зайдешь ко мне. Здесь пока останется мама. Не волнуйся…
Я вышел и в соседней комнате, сидя на диване, стал ждать. Я слышал, как за стеной суетились горничные; нетерпение терзало меня. «Когда я смогу войти? Когда смогу я остаться с ней наедине? Я спать не буду: всю ночь просижу у ее изголовья. Быть может, через несколько часов она успокоится, почувствует себя хорошо. Я буду гладить ее волосы, и, может быть, мне удастся ее усыпить. Кто знает! Через некоторое время, в полусне, она скажет: „Приди ко мне!“» У меня была странная вера в могущество моих ласк. Я еще надеялся, что эта ночь завершится сладостным концом. И как всегда, среди томительной тревоги, которую мне причиняла мысль о страданиях Джулианы, вырисовывался чувственный образ, мало-помалу превратившийся в яркое и длительное видение. «Бледная, как ее рубашка, при свете лампады, горящей за занавесями алькова, она пробуждается от первого, краткого сна, глядит на меня полуоткрытыми томными глазами и шепчет:


























