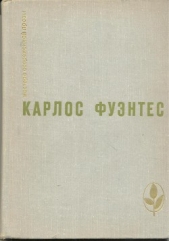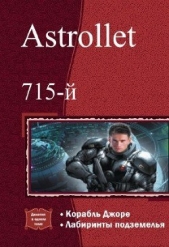Смерть Артемио Круса
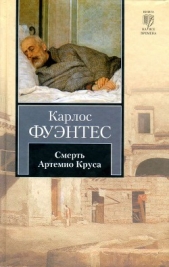
Смерть Артемио Круса читать книгу онлайн
Одно из величайших литературных произведений XX века. Один из самых гениальных, многослойных, многоуровневых романов в истории щедрой талантами латиноамериканской прозы. Сколько лицу революции? И правда ли, что больше всего повезло тем ее героям, которые успели вовремя погибнуть? Артемио Крус, соратник Панчо Вильи, умирает, овеянный славой — и забытый. И вместе с ним умирает и эпоха, и душа этой эпохи… Нет больше героев «времени перемен». И нет места в современном, спокойном мире тем, кто не успел красиво умереть на полях сражений…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Переправимся через реку на лошадях. И доберемся до побережья, до моря. В Веракрус.
…кальмары и осьминоги, моллюски и разные другие дары моря; думаю о пиве, горьком, как море, о пиве, думаю об олене по-юкатански, о том, что Я не стар, нет, хотя однажды стал стариком, взглянув в зеркало… И об ароматных сырах, которые люблю. Думаю, хочу, — как это приятно и как надоело слушать собственный голос, отрывистый, настойчивый, властный голос. Одна и та же роль, всегда. Скучно. Ведь можно было есть, есть. Есть, спать, любить — и так далее. Что? А? Кто это хочет есть, спать и любить на мои деньги? Ты — Падилья, и ты — Каталина, и ты — Тереса, и ты — Херардо, и ты, Пакито Падилья, — так ведь тебя зовут, молокосос, жующий губы моей внучки в углах моей комнаты или, вернее, этой комнаты, потому что Я не живу здесь. Вы — молоды, но я тоже умею жить, потому и не живу здесь. Я — старый, да? Старик с причудами, имеющий право иметь их, потому что посылал всех к… — не так ли? — к… и знал, на кого ставить, и ставил вовремя, как той ночью. Да, я уже вспоминал о той женщине, о той ночи. Вспомнил и об этом слове. Дайте мне поесть, почему мне не дают есть. Убирайтесь отсюда, ох, больно. Убирайтесь… вашу мать… Вокруг — сплошная «чингада».
* * *
Ты, произнес, произнесешь это заклятое мексиканское слово, это матерное слово. Чингада. Оно — твое и мое. Слово людской чести, слово мужчины, слово повседневности, слово-жернов, перемалывающее массу понятий. Оно — все: проклятие, намерение, приветствие, мироощущение, духовное родство, вопль отчаяния, жалоба бедняка, приказ хозяина, повод для скандала, призыв к работе. Слово-спутник, завсегдатай праздников и пьянок, шпага мужества, постамент силы, мерило красноречия, слава нации, страж границ, детище истории, пароль и отзыв Мексики — вот оно что, это слово… Со всеми своими сородичами оно вылезает из постели и проникает во все закоулки быта, выходит на столбовую дорогу жизни. Везде сплошной мат, «чингада». С ним люди рождаются и умирают, живут с ним. Он везде и всюду: тасует карты, делает ставки, прикрывает недомолвки и двойную игру, определяет ценность и силу, опьяняет, ошеломляет, губит, с него начинается история дружбы, ненависти и власти. Наша суть. И ты, и я — члены этой масонской ложи, этого препохабного ордена. Ты — тот, кто ты есть, потому что умел топить в грязи других и не позволял делать это с собой. Ты — тот, кто ты есть, потому что не сумел утопить в грязи других и позволил окунуть в дерьмо себя. Все мы связаны одной дрянной цепью — те, кто ступенькой повыше, с теми, кто пониже. И до нас были сукины сыны, и после нас будут. Ты унаследуешь это паскудство и оставишь его тем, кто будет жить после тебя. Ты — сын сукиных сынов и сам наплодишь сукиных детей. Блядство — в тебе и с тобой.
Куда же идешь ты со всей своей матерной сутью, со всей этой похабщиной?
Ох, какой самообман, какая фальшь, какая тоска: ты мыслишь вернуться с этим багажом к самому началу? К какому же началу? Нет, ни ты и никто не хочет возвращаться к обманчивому золотому веку, к мраку прошлого, к звериному рыку, к борьбе за кусок мяса, к пещере и кремню, к жертвам и безумствам, к безотчетной боязни, к кровожадному фетишу, к страху перед солнцем, перед идолами, перед громом, тьмой, огнем, масками, водой, голодом, собственной зрелостью и слабостью, к вселенскому страху, к проклятой пирамиде смертей и ужасов.
Ох, какой самообман, какая фальшь, тоска: ты думаешь, что с таким грузом пойдешь вперед, утвердишь себя в будущем? В каком же будущем? Нет, ни ты, ни кто не захочет идти, таща за собой проклятие, подозрение, обманутые надежды, досаду, ненависть, злость, зависть, презрение, неуверенность, нищету, подкупы, оскорбления, запугивание, ложное самолюбие, издевательства, коррупцию — все непотребство, эту чингаду.
Брось его на дороге, порази его каким-нибудь новым оружием. Прикончим его, прикончим это слово слов, которое нас разъединяет, обращает в камни, порабощает и отягчает вдвойне, — это наш идол и наш крест. Пусть оно не будет ни нашим паролем, ни нашей судьбой.
Моли, пока священник мажет тебе губы, нос, веки, руки, ноги елеем, проси, чтобы вся эта матерщина, которой захлебываются, в которой барахтаются люди, не была ни нашим паролем, ни нашей судьбой, — похабщина, которая отравляет любовь, расторгает дружбу, убивает нежность, разъедает, разделяет, разрушает, вредит. Змеиный холод члена и твердь каменной матки, пьяный рык жрецов на пирамидах, господ на тронах, владык в церквах — вот что такое похабство. Дым, Испания и Анауак, чад, удобрения непотребства, экскременты непотребства, плоскогорья непотребства, жертвы непотребства, доблесть непотребства, рабство непотребства, храмы непотребства, слова непотребства. Кого ты, чтобы жить, утопишь в грязи сегодня? А кого завтра? Кого изматеришь, кого опоганишь? Всех этих ничтожных людишек ты используешь, возьмешь, чтобы получать удовольствие, господствовать, презирать, побеждать, жить, — ты используешь всю эту сволочь, это паскудство, хуже которого нет ничего.
Но ты устанешь, ты его не одолеешь, слышатся тебе и другие заклинания, заглушающие твое: «пусть оно не будет ни нашим паролем, ни нашей судьбой…»
Ты сдаешь,
Ты его не одолеешь,
Ты возился в нем всю жизнь,
Ты — порождение всего этого похабства, этой грязи, от которой очищался, топя в ней других; этого забвения, которое нужно, чтобы вспоминать; этой нашей бесконечной несправедливости.
И ты сдаешь…
Ты побеждаешь меня, вынуждаешь падать вместе с тобой в этот ад; ты заставляешь вспоминать о других вещах, только не об этом; заставляешь думать о том, что будет, но не о том, что есть и что было: ты побеждаешь меня похабной жизнью.
Ты сдаешь,
Отдохни,
Помечтай о своей невиновности,
Скажи, что старался и еще постараешься; помни, что однажды насилие отплатит тебе той же монетой, обернется другой своей стороной, когда ты, как молодой, захочешь оскорбить то, что должен был бы, как старик, благодарить. Наступит день, когда ты кое-что поймешь, поймешь, что наступил конец чего-то. Однажды утром ты встанешь — Я заставляю тебя вспоминать, — встанешь, посмотришь в зеркало и увидишь наконец, что кое-что осталось позади. Ты припомнишь этот первый день наступившей старости, первый день нового времени — отметь его. И ты отметишь, окаменев, как статуя, и отныне по-новому глядя на все вокруг себя. Ты поднимешь жалюзи, чтобы ворвался в комнату утренний ветерок. Ах, он наполнит тебя, заставит забыть запах ладана, этот преследующий тебя запах; ах, как освежит тебя ветер развеет сомнение в самом себе, поможет отбросить это первое страшное сомнение.
* * *
(11 сентября 1947 г.)
Он поднял жалюзи и глубоко вдохнул чистый воздух. Утренний ветерок, ворвавшийся в комнату, игриво качнул шторы. Он выглянул наружу. Эти ясные рассветные часы не сравнимы ни с чем: весна дня. Их скоро задушат цепкие лучи солнца. Но в семь утра морской пляж перед балконом объят прохладной дремотной тишиной. Чуть урчит прибой, поглаживая песок; голоса редких купальщиков не мешают молчаливой встрече восходящего солнца с умиротворенным океаном. Он поднял жалюзи и вдохнул чистый воздух. Трое мальчишек идут вдоль берега с ведерками, собирая сокровища, которые разбросала ночь: морские звезды, ракушки, отполированные кусочки дерева. Невдалеке покачивается на волнах парусник. Прозрачное небо освещает землю, словно сквозь зеленоватое стекло. По дороге от отеля до пляжа не видно еще ни одной автомашины.
Он снова опустил жалюзи и направился в ванну, выложенную мавританскими изразцами. Увидел в зеркале свое лицо, опухшее от сна, короткого и беспокойного. Мягко прикрыл за собой дверь. Открыл краны и заткнул затычкой отверстие в раковине. Бросил пижаму на крышку унитаза. Взял новое лезвие, снял с него восковую обертку и вставил в золоченую бритву; положил бритву в горячую воду, смочил полотенце и похлопал им себя по лицу. Пар затуманил зеркало. Он протер рукой стекло и зажег торчавшую над ним неоновую лампу-трубочку. Выдавил из тюбика крем для бритья — новое североамериканское изобретение — и обмазал белой прохладной массой щеки, подбородок и шею. Вытаскивая бритву из воды, обжег пальцы. Сморщился от боли и, растягивая щеку левой рукой, начал бриться — снизу вверх, старательно скобля подбородок, кривя рот. От пара стало жарко, по ребрам поползли капли пота. Он медленно водил бритвой по лицу, время от времени нежно потрагивая кожу — не колется ли. Снова открыл краны, смочил полотенце, прижал к щекам. Промыл уши и обдал лицо освежающим лосьоном, крякнув от удовольствия. Сполоснул лезвие, снова вставил в бритву и спрятал ее в кожаный футляр. Вынул затычку в раковине и минуту смотрел на водоворот, круживший серые хлопья мыла и волоски. Потом испытующе обозрел свое лицо: хотелось видеть себя все таким же. Но, снова протерев запотевшее зеркало, невольно подумал, что, хотя и смотрел на свою физиономию каждое утро, уже очень — очень давно не видел себя. Этот вот четырехугольник из покрытого ртутью стекла — единственный правдивый портрет лица с зелеными глазами и энергичным ртом, широким лбом и большими скулами. Он открыл рот и высунул обложенный язык; скосил глаза на зияющие в зубах прогалины. Открыл аптечку и взял протезы, покоившиеся на дне стакана с водой. Быстро вытер их и, повернувшись к зеркалу спиной, вставил в рот. Намазал на щетку зеленоватую пасту и почистил зубы. Пополоскал горло и скинул пижамные брюки. Открыл кран душа, попробовал рукой воду — не холодна ли. Душевой дождь щекотал затылок, пока Он намыливал свое тощее тело с выпирающими ребрами и обвислым животом. Мускулы еще не утратили способности нервно напрягаться, но так и норовили расслабиться, обмякнуть — противно, до смешного! — если Он не заставлял себя подтягиваться и приосаниваться. А это хотелось делать лишь тогда, когда его нагло оглядывали, как теперь в отеле и на пляже. Он подставил лицо под душ, закрыл кран и растерся полотенцем. Протерев лавандовой водой грудь и под мышками, снова пришел в хорошее расположение духа и пригладил гребешком завитки волос. Надел голубые шорты, белую спортивную рубашку и итальянские парусиновые туфли на мягкой подошве и тихо открыл дверь ванной комнаты.