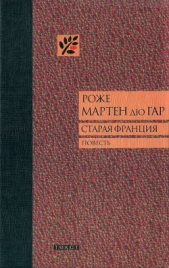Семья Тибо, том 1
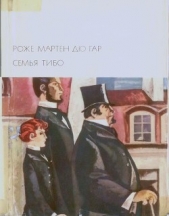
Семья Тибо, том 1 читать книгу онлайн
Роман-эпопея классика французской литературы Роже Мартен дю Гара посвящен эпохе великой смены двух миров, связанной с войнами и революцией (XIX — начало XX века). На примере судьбы каждого члена семьи Тибо автор вскрывает сущность человека и показывает жизнь в ее наивысшем выражении жизнь как творчество и человека как творца.
Перевод с французского М. Ваксмахера, Г. Худадовой, Н. Рыковой, Н. Жарковой.
Вступительная статья Е. Гальпериной, примечания И. Подгаецкой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лицо Жака приняло жесткое выражение.
— Видишь ли, Даниэль, — заговорил он, опустив голову, что приглушало его голос, — ты живешь, замкнувшись в своем творчестве, как будто ничего не знаешь о людях…
Даниэль положил этюд, который держал в руках.
— О людях?
— Люди — это несчастные животные, — продолжал Жак, — животные, которых мучают… Пока отвращаешь взгляд от их страданий, может быть, и можно жить, как ты живешь. Но если хоть раз соприкоснешься с человеческим горем, невозможно вести жизнь художника… Понимаешь?
— Да, — медленно произнес Даниэль. И, подойдя к окну, он несколько мгновений созерцал расстилающееся перед ним море крыш.
"Да, — размышлял он, — разумеется, Жак прав… Горе… Но что с ним поделаешь? Все на свете безнадежно… Все — за исключением именно искусства! — И более чем когда-либо чувствовал он себя привязанным к этому чудесному убежищу, где ему удалось устроить свою жизнь. — Зачем мне взваливать себе на шею грехи и несчастья мира? Это только парализует мои творческие силы, задушит мое дарование безо всякой пользы для кого-либо. Я не родился апостолом… И, кроме того, допустим даже, что это чудовищно, — но я всегда твердо желал быть счастливым!"
Это была правда. С детства старался он защищать свое счастье от всего и от всех с наивным, быть может, но вполне сознательным чувством, что в этом состоит его первая обязанность по отношению к самому себе. Обязанность, впрочем, нелегкая, требовавшая неусыпного внимания: стоит человеку чуть-чуть уступить обстоятельствам, и он уже готовит себе беду… Первым условием счастливого существования была для него независимость, а он хорошо знал, что нельзя отдаться какому-либо общему делу, не пожертвовав предварительно своей свободой… Но Жаку он не мог сделать подобного признания. Ему пришлось молчать и принять презрительное осуждение, прочитанное в глазах друга.
Он повернулся и, подойдя к Жаку, несколько секунд смотрел на него внимательно и как бы вопрошая о чем-то.
— Хоть ты и говоришь, что счастлив, — сказал он под конец (Жак ничего подобного не говорил), — какой у тебя все же… печальный… измученный вид!..
Жак встрепенулся и выпрямился. На сей раз он будет говорить! Казалось, он внезапно принял долго откладывавшееся решение, и взгляд его стал таким серьезным, что Даниэль взглянул на него с недоумением.
В этот момент раздался резкий звонок, и они вздрогнули от неожиданности.
— Людвигсон, — шепнул Даниэль.
"Тем лучше, — подумал Жак. — К чему?.."
— Подожди, это ненадолго, — прошептал Даниэль. — Потом я тебя провожу…
Жак отрицательно покачал головой.
Даниэль продолжал умоляюще:
— Неужели ты уйдешь?
— Да.
Лицо его как-то одеревенело.
Одну секунду Даниэль смотрел на него в полном отчаянье. Затем, чувствуя, что все настояния будут тщетны, он безнадежно махнул рукой и побежал открывать дверь.
Людвигсон предстал перед ними в отлично сидевшем на нем летнем костюме из легкой шелковой ткани кремового цвета, на котором бросалась в глаза розетка Почетного легиона. Его массивная голова, словно вылепленная из какого-то бледного студня, сидела на жирной шее, которую свободно облегал мягкий воротничок. Череп был заострен; глаза немного раскосые; скулы плоские. Широкий толстогубый рот наводил на мысль о западне.
Он явно рассчитывал, что торговаться они будут с глазу на глаз, и присутствие третьего лица вызвало в нем легкое удивление. Тем не менее он любезно подошел к Жаку, которого сразу же узнал, хотя встречался с ним всего один раз.
— Очень приятно… — сказал он, раскатывая "р". — Я, кажется, имел удовольствие беседовать с вами четыре года тому назад в антракте на русском балете, не так ли? Вы готовились к экзаменам в Эколь Нормаль?
— Правильно, — сказал Жак, — у вас замечательная память.
— Да, это так, — сказал Людвигсон. Он опустил свои жабьи веки и, словно радуясь тому, что может тотчас же подкрепить похвалу Жака, обернулся к Даниэлю. — Ваш друг господин Тибо рассказал мне, что в Древней Греции — если не ошибаюсь, в Фивах, — те, кто желал добиться государственных должностей, должны были по меньшей мере в течение десяти лет не вести никакой торговли… Странно, не правда ли? Я твердо это запомнил… В тот же вечер вы мне рассказали, — прибавил он, оборачиваясь теперь к Жаку, — что у нас во Франции при старом режиме, для того чтобы иметь право носить титул, необходимо было не менее двадцати лет обладать этими — как они? дворянскими грамотами, ведь так?.. — И с изящным поклоном он заключил: — Я чрезвычайно люблю разговаривать с образованными людьми…
Жак улыбнулся. Затем, торопясь уйти, он попрощался с Людвигсоном.
— Что ж, — бормотал Даниэль, провожая его до двери, — ты, значит, не подождешь?
— Невозможно. Я и так опоздал…
Он избегал смотреть на друга. Ужасное видение снова предстало перед ним, и сердце его сжалось: Даниэль на передовых позициях…
Стесняясь Людвигсона, они только машинально пожали друг другу руки.
Жак сам открыл тяжелую дверь, пробормотал: "До свиданья", — и бросился вниз по темной лестнице.
На тротуаре он остановился, глубоко вздохнул и посмотрел на часы. Вожирарское совещание уже давно кончилось.
Ему хотелось есть. Он зашел в булочную, купил два рогалика, плитку шоколада и пешком двинулся по направлению к Бирже.
XXXII. Пятница 24 июля. — Жак проводит вечер в "Юманите"; мрачные слухи
В тот вечер, в пятницу 24 июля, в "Юманите" в кабинетах Галло и Стефани велись довольно пессимистические разговоры. Все, кто беседовал с патроном, проявляли беспокойство. На бирже из-за внезапной паники французские трехпроцентные бумаги упали до восьмидесяти и даже — был такой момент — до семидесяти восьми франков. Никогда с 1872 года рента не котировалась так низко. Телеграммы из Германии сообщали о такой же панике на берлинской бирже.
Днем Жорес опять ездил на Кэ-д'Орсе и вернулся оттуда очень озабоченный. Он работал, запершись в своем кабинете, и никого не принимал. Его передовица для завтрашнего номера была готова; знали, впрочем, только ее заглавие, но оно было весьма многозначительно: "Последний шанс сохранить мир". Он сказал Стефани: "Австрийская нота страшно резкая. Можно подумать, что Вена решила забежать вперед со своими наскоками и сделать невозможным какое бы то ни было превентивное вмешательство держав…"
И действительно, во всем, казалось, проявлялись дьявольские хитросплетения, имеющие целью вызвать в Европе полнейший развал. Ответственные руководители французского правительства до 31 июля были в отсутствии; новость они, видимо, узнали в море, где-нибудь между Россией и Швецией, и им трудно было сговориться с прочими французскими министрами и с правительствами союзных стран. (Берхтольд постарался устроить так, чтобы царь узнал содержание ноты лишь после отъезда президента: он, видимо, опасался, что советы Пуанкаре будут не слишком миролюбивыми.) Кайзер тоже находился в море и вследствие этого не мог, даже если бы захотел, дать Францу-Иосифу совет проявить умеренность. С другой стороны, забастовки в России, которые были тогда в самом разгаре, парализовали свободу действия руководителей русской политики, так же как гражданская война в Ирландии [282] связывала по рукам и ногам англичан. Наконец, сербское правительство было именно в эти дни по горло занято выборами: большинство министров разъезжало по провинции в связи с выборной кампанией; даже премьер-министра Пашича не было на месте, когда в Белграде получена была австрийская нота.
Вскоре стали поступать подробные сведения об этой ноте. Текст, накануне предъявленный сербскому правительству, сегодня был сообщен державам. Несмотря на примирительные заявления, неоднократно делавшиеся Австрией (Берхтольд заверил русского и французского послов, что требования будут выставлены самые приемлемые), нота носила явный характер ультиматума, поскольку венское правительство настаивало на полном подчинении всем выставленным условиям и назначало определенный срок для ответа — срок немыслимо короткий: сорок восемь часов, — с целью, вероятно, воспрепятствовать вмешательству держав в пользу Сербии. Секретное сообщение, полученное из австрийского министерства иностранных дел и доставленное неким венским социалистом, посланцем Хозмера, Жоресу давало все основания для беспокойства: барон фон Гизль, австрийский посланник в Сербии, вместе с приказанием вручить ноту получил также инструкции о разрыве дипломатических отношений и о немедленном отъезде из Белграда в случае, — весьма вероятном, — если назавтра, в субботу, к шести часам вечера сербское правительство не примет без всяких возражений австрийские требования. Эти инструкции наводили на мысль, что ультиматум был нарочно составлен в оскорбительной, неприемлемой форме, чтобы дать Вене возможность ускорить объявление войны. Эти пессимистические гипотезы подтверждались и другой информацией. Начальник генерального штаба Гетцендорф, проводивший каникулы в Тироле, был вызван телеграммой, прервал свой отдых и поспешил вернуться в столицу Австрии. Германский посол во Франции фон Шен [283], находившийся в отпуске в Берхтесгадене, внезапно возвратился в Париж. Граф Берхтольд после совещания с императором в Ишле сделал на обратном пути крюк и заехал в Зальцбург, чтобы встретиться там с германским канцлером Бетман-Гольвегом [284].