Том 1. «Ворота Расёмон» и другие новеллы
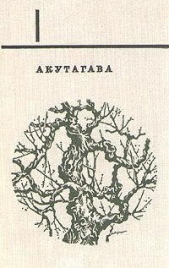
Том 1. «Ворота Расёмон» и другие новеллы читать книгу онлайн
Акутагава - классик японской литературы (1892 - 1927).
Собрание включает наиболее известные произведения автора, как уже публиковавшиеся на русском языке, так и издающиеся впервые. Его рассказы и повести глубоко философичны и психологичны вне зависимости от того, саркастичен ли их тон или возвышению серьезен.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кураноскэ слушал рассказы Дзюная с горечью, как будто его обдавали презрением. И в то же время в его памяти, словно сами собой, пробудились воспоминания о былом разгуле. Это были какие-то до странности яркие, красочные воспоминания. В них он снова видел свет большой свечи, ощущал запах ароматического масла, слышал звуки сямисэна. Даже слова той песенки, о которой упомянул Дзюнай:
вызывали в его душе пленительные, словно живые образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. Вспомнил, как он без всяких колебаний повел эту разгульную жизнь — ту самую, которая сейчас всплыла у него в памяти. Как он среди этого разгула моментами наслаждался свободой и при¬ вольем, совершенно забывая о деле мести. Он был слишком честен, чтобы отрицать тот факт, что обманывал и самого себя. Конечно, ему, понимающему человеческую природу, и во сне не могло присниться, что этот факт аморален. Оттого-то ему и было неприятно, что им восхищаются, считая его разгул лишь средством выполнения долга верности. Это было ему неприятно, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым.
И не было ничего удивительного в том, что, слушая восхваления своего притворного безумия и тех мучений, на которые он себя обрек, Кураноскэ сидел с самым мрачным видом. Получив еще и этот последний удар, он с полной ясностью почувствовал, как из его груди улетучиваются последние остатки весеннего тепла. В ней оставалась только досада на всеобщее непонимание, досада на собственное неразумие, на то, что он не сумел предвидеть такое непонимание. Холодная тень этого чувства все шире и шире ложилась на его душу. Ведь и память о его подвиге отмщения, о его товарищах и, в конце концов, о нем самом, вероятно, так и перейдет в последующие времена в сопровождении столь неоправданных восхвалений. Перед лицом этого нерадостного факта он, положив руки на хибати, где уже остывали угольки, и стараясь не встречаться глазами с Дэнъэмоном, печально вздохнул.
Это было немного спустя. Оиси Кураноскэ, вышедший из комнаты под первым же удобным предлогом, прислонившись к столбу наружной галереи, любовался яркими цветами, распустившимися на старом сливовом дереве среди мхов и камней старого сада. Свет солнца уже ослабел, и из бамбуков, насаженных в саду, надвигались сумерки. Там, за сёдзи, по-прежнему слышались оживленные голоса. Слушая эти голоса, Кураноскэ почувствовал, что его медленно окутывает печаль. Вместе с легким ароматом сливы все его существо охватило уныние, невыразимое уныние, проникшее в самую глубь его снова похолодевшего сердца.
Кураноскэ недвижно стоял, подняв глаза на эти твердые, холодные цветы, как будто врезанные в синее небо.
Сентябрь 1917 г.
РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОТВАЛИЛАСЬ ГОЛОВА
Хэ Сяо-эр выронил шашку, подумал: «Мне отрубили голову!» — и в беспамятстве вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал это уже после того, как вцепился. Просто что-то с глухим звуком впилось в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Сяо-эр повалился на луку седла, как конь громко заржал, вздернул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля гаоляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ Сяо-эра они донеслись, как во сне.
Высокий, выше человеческого роста, гаолян, приминаемый бешено несущейся лошадью, ложился и вставал волнами. И справа и слева стебли то трепали косу Хэ Сяо-эра, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся из шеи черную кровь. Но голова его неспособна была осознавать все это в отдельности. В его мозгу с мучительной отчетливостью стоял только один простой факт — зарезан. «Зарезан! Зарезан!» — твердил он мысленно и совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади.
Хэ Сяо-эр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки, отделенной от лагеря рекой, минут десять назад среди полей желтеющего гаоляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ Сяо-эр и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно: вот враг. И может быть, еще: убить врага. Поэтому, повернув лошадей, оскалившись, как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появлялось отражение их собственных лиц с оскаленными зубами. И одновременно вокруг них взвились шашки.
А дальше... Дальше представление о времени исчезло. Хэ Сяо-эр до странности ясно помнил, как качался, словно от порывов бури, высокий гаолян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка и что и в какой последовательности произошло — этого он почти не помнил. Во всяком случае, все это время Хэ Сяо-эр, громко выкрикивая как безумный что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота. И в то же время удивительно сохло во рту. Тут внезапно перед его лошадью вынырнуло искаженное лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезающими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрубленной посредине фуражке с красным кантом видна была наголо обритая голова. Увидев его, Хэ Сяо-эр взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретилась с взметнувшимся клинком шашки противника. В кипевшем кругом шуме звук удара прозвенел отчетливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэ Сяо-эра и описал широкий круг... И в тот же миг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилось ему в шею.
Лошадь со стонущим от боли Хэ Сяо-эром на спине бешено неслась вскачь по полям гаоляна. Гаолян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиное ржание, лязг скрещивающихся шашек — все уже затихло. Осеннее солнце в Ляодуне сияло так же, как в Японии.
Хэ Сяо-эр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нем выражалось более сложное ощущение: Хэ Сяо-эр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки — от головокружительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти.
Ему было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучавшим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того... Все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того, как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть: «Умираю, умираю!» — то произнести имя отца или матери, то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывавшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны — настолько раненый ослабел.
«Нет человека несчастней меня! Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня все равно что враги. Из-за них, из-за всех этих людей я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько еще хотелось сделать. И я, который позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали, — какой же я дурак!»


























