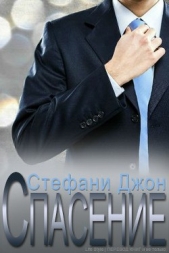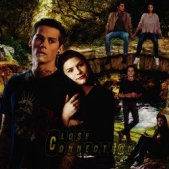Дневник вора

Дневник вора читать книгу онлайн
Знаменитый автобиографический роман известнейшего французского писателя XX века рассказывает, по его собственным словам, о «предательстве, воровстве и гомосексуализме».
Автор посвятил роман Ж.П.Сартру и С. Де Бовуар (использовав ее дружеское прозвище — Кастор).
«Жене говорит здесь о Жене без посредников; он рассказывает о своей жизни, ничтожестве и величии, о своих страстях; он создает историю собственных мыслей… Вы узнаете истину, а она ужасна.» — Жан Поль Сартр
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что касается наших нравов, то рассказ об удачных делах не даст вам ничего нового в этом смысле. Обычно мы с Робером поднимались в свою комнату вместе с гомиком. Лишь только он засыпал, мы бросали его бумажник Стилитано, который ждал под окном. Утром простофиля обвинял нас в краже. Мы разрешали ему нас обыскать, и он не решался заявить в полицию. Поначалу Робер пытался найти оправдание этим грабежам. Начинающий вор всегда хочет наказать негодяя.
— Эти типы — извращенцы, — говорил он.
Отыскивая у обворованных им «голубых» тайные пороки, он стал походить на зануду, и Стилитано с грубой прямотой заявил ему:
— Слушай, если ты не прекратишь свои проповеди, тебе придется податься в попы. Мы делаем это только по одной причине — нам нужны башли.
От этих слов Робер окончательно распоясался. Уверенный в поддержке Стилитано, он стал позволять себе невероятные вольности. Он говорил очень неприличные вещи. Это забавляло Стилитано, который теперь всюду ходил только с ним. Я все больше падал духом. Я ревновал их обоих. Я чувствовал, что он ускользает от меня. Поскольку он был смазливее меня и с большей ловкостью завлекал мужчин, Стилитано отдал ему мои вещи. Робер носил их непринужденно, с улыбкой. У меня же остались одни брюки, один пиджак да рваные рубашки. Я изобретал всякие жалкие способы мести Стилитано. По сравнению с Арманом он выглядел лишенным величия и более плоским. Его красота казалась мне пошлой. Язык — бесцветным. От Армана же я ждал новых откровений.
Я не могу утверждать, что его бесстыдство натолкнуло меня на мысль писать порнографические книги, но, разумеется, я был шокирован его похабным ответом Стилитано, когда тот очень спокойно, с легкой небрежностью поинтересовался у Армана о причине его столь пылкой нежности к собственному члену.
— Все дело в яйцах, — отвечал Арман с гордостью, — моих яйцах; бабы вышагивают, выставив свои буфера, они носятся с ними, как с писаной торбой, эти бабы, и я тоже имею право показывать мои яйца, выставлять их напоказ и подносить на блюдечке. Я даже имею право — ведь они так красивы — послать их в подарок Поле Негре или принцу Уэлльскому!
Стилитано мог быть циничным, но он был не в силах воспевать свой член. Его трусость, безволие, лень выходили на свет, чтобы отравить мое дыхание своим зловонием. С давних пор глубоко запрятанные — скапливаясь в тиши, они усугубляли мою горечь. То, что некогда украшало его — так язва делает плоть более живописной и рельефной, — теперь служило поводом для моего презрения. Но его пороки словно не замечали моей ревности и злобы и продолжали подтачивать наши отношения.
Как-то раз, когда мы шли по улице вдвоем, Сильвия взяла меня за руку и прижалась ко мне. Двое мужчин, которых я любил, отдалялись от меня из-за своей недвусмысленной дружбы, не допуская меня в свой открытый, чистосердечный и веселый союз, и вдобавок женщина одного из них, стремясь смягчить мою боль, унижала меня своей жалостью. Меня едва не вырвало от прикосновений ее бедра и груди. Она посмела сказать Стилитано, желая, конечно, его задеть, что я ей нравлюсь. Стилитано и Робер расхохотались:
— Ну что ж, продолжайте гулять вдвоем. А мы отправимся по своим делам.
Их улыбки выдворяли меня, и я почувствовал, как лечу вниз по залитой светом лестнице, на вершине которой царил Стилитано. Я снова скатился на дно, к Испании и лохмотьям, меня опять ждали ночи среди голодранцев. Я нажил несколько счастливых мгновений, но был безутешен: теперь-то я окончательно убедился, что вечно буду ползать в грязи и вылизывать свои ноги, запорошенные пылью бесконечных дорог. Мысль о вшах уже откладывала яйца на моем теле. Нашествие вшей было не за горами, и я перестал стричься. Я решил убить Стилитано и Робера. Мне не удалось стать убийцей в светлую пору, значит, я стану им в горе: я выбирал каторгу или позорную смерть. Я держался лишь благодаря воспоминаниям об Армане и надежде его увидеть, но он все не возвращался.
Дело было в Бельгии. Французская полиция приобрела колоссальный вес в моих глазах. Как и ее карательная машина. То, что я совершил за пределами Франции, было не грехом, а ошибкой. Что ожидало меня в бельгийских тюрьмах, на каторге? Должно быть, лишь досада оттого, что меня лишили свободы. Я предложил Стилитано с Робером совершить вылазку в Мобеж.
«Если я убью их в Арденнах, меня арестуют французы, и я буду сослан в Гвиану».
Они отклонили мое предложение. Однажды, когда я оказался один в комнате Стилитано, я украл револьвер из кармана его пиджака, висевшего в шкафу.
События эти происходили между 1932 и 1940 годами. В то время как я знакомлю вас с моей жизнью тех лет, я поглощен иными страстями. Я описал ее, пользуясь своими заметками. Пусть они послужат этой книге.
Я укусил Люсьена до крови. Я хотел, чтобы он завыл от боли, его бесчувственность меня доконала. Я знаю, что способен искромсать его плоть, утонуть в бессмысленном море крови, сохраняя при этом рассудок и упиваясь своим падением. «Пусть множатся следы когтей и острых зубов, — говорил я себе, — пусть брызжет слюна, летят клочья волос, и пусть, несмотря на мои укусы, Люсьен сохраняет безучастный вид, ибо гримасы невыносимой боли тотчас же заставят меня разомкнуть челюсти и попросить у него прощения». Когда мои зубы кусали его плоть, мои челюсти сжимались до судорог, сотрясавших все мое тело. Я изрыгаю хрипы, и все-таки я люблю — о как нежно я люблю моего милого рыбака из Сюке! Вытянувшись рядом со мной, он ласково переплетает свои ноги с моими, и мягкая ткань наших пижам делает это слияние еще более полным, затем он тщательно выбирает место, куда прижаться щекой. Пока он не заснет, я чувствую своей очень чувствительной шеей трепет его век и загнутых кверху ресниц. Если у него пощипывает в ноздрях, лень и апатия не позволяют ему пошевелить рукой, и он трется носом о мою бороду, нежно толкая меня головой, словно теленок, сосущий мать. В такие минуты его уязвимость не знает предела. Один неласковый взгляд, одно резкое мое слово могут ранить его, рассечь слишком нежную, почти воздушную упругую плоть, не оставив на ней следов. Порой волна нежности, хлынувшая из сердца, неожиданно для меня омывает мои руки, и они сжимают его сильнее, он же, не поднимая головы, приникает губами к ближайшей части моего лица или тела. Таков его непроизвольный ответ на внезапные тиски моих рук. Волне моей нежности всегда сопутствует этот бесхитростный поцелуй, и я чувствую, как моя кожа расцветает от ласки простого сердечного парня. Этот знак говорит мне о его покорности велениям моего сердца, о повиновении его тела моему разуму. Я перехожу на шепот, мой голос звучит сдавленно из-за того, что его голова лежит на моей груди:
— Когда ты лежишь вот так, прильнув ко мне, я словно оберегаю тебя.
— Я тоже, — говорит он. И снова быстро чмокает меня.
— Что тоже?
— Мне тоже кажется, что я тебя защищаю.
— Да? Почему же? Я что, кажусь тебе слабым?
— Да… Я оберегаю тебя.
Поцеловав мои закрытые глаза, он покидает мою постель. Я слышу, как он закрывает дверь. Под моими веками мелькают картинки: в светлой воде носятся серые очень юркие насекомые, которые водятся на илистом дне некоторых водоемов. Они бегают в светлой воде и в тени моих глаз, дно которых покрыто илом.
Странно, что столь мускулистое тело так легко расплавляется моим телом. Он ходит по улице, вихляя плечами: его твердость тает как снег. То, что раньше было острыми углами, осколками, смягчилось — все, кроме глаз, сверкающих среди рыхлых сугробов. Эта машина, предназначенная для кулачных боев, ударов башкой и пинков, вытягивается, развертывается, распрямляется и доказывает, к моему изумлению, что всегда была воплощенной кротостью, сжатой, скованной, стянутой, разбухшей, свернувшейся клубком, но я понимаю, что эта кротость, эта гибкая покорность, благодаря моей нежности, вмиг обернется яростной злобой, коль скоро она утратит повод оставаться собой, коль скоро уйдет моя нежность, если, например, я брошу парнишку, если я отниму у слабости право обитать в этом дивном теле. Я вижу, что может вызвать подобный взрыв. Какую боль причиняют такие озарения! Его кротость снова сожмется, съежится, свернется клубком, снова станет грозным оружием.