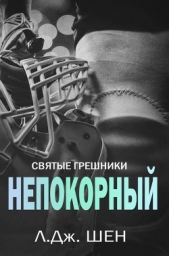Покойный Маттио Паскаль

Покойный Маттио Паскаль читать книгу онлайн
Луиджи Пиранделло написал несколько романов. Самым известным из них является «Покойный Маттиа Паскаль» (1904).
Герой романа ведет унылое существование в провинциальном городке, находясь на нищенском жалованье библиотекаря и проводя время среди пыльных книг, которых никто не читает, и мышей. Семейные дрязги, смерть детей, одинокие прогулки по пляжу, чтобы хоть как-то убить время и отделаться от скуки, и, конечно, мечты об освобождении. Неожиданно случай помогает Маттиа – он выигрывает в рулетку крупную сумму денег. Он думает уехать в Америку, чтобы обрести свободу. И снова случай помогает ему – из газет он узнает, что в его родном городке найден утопленник, в котором жена и родные опознали Маттиа. Мечты о свободе как будто становятся реальностью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Простите, синьор Палеари, – возразил я ему, – великий человек гуляет, падает, ушибает голову, становится идиотом. А куда же делась душа?
Синьор Ансельмо оцепенел и уставился в одну точку, словно к его ногам внезапно упал камень:
– Куда делась душа?…
– Конечно, мы с вами не великие люди, но все же рассудите сами: я гуляю, падаю, ушибаю голову, становлюсь идиотом, куда же делась душа?
Палеари сложил руки и с выражением снисходительного сочувствия ответил:
– Но, боже мой, зачем вам падать и ударяться головою, дорогой синьор Меис?
– Ну, это просто гипотеза.
– Нет, синьор, гуляйте лучше спокойно. Возьмем стариков, которые, не падая и не ушибая голову, порой в силу законов природы становятся идиотами. О чем это свидетельствует? Вы хотите доказать, что, повредив тело, вы ослабляете и душу, что исчезновение тела влечет за собой исчезновение души. Но почему бы вам, простите, не представить себе нечто противоположное – душу, озаряющую совершенно изможденное тело. Например, Джакомо Леопарди. И многие старики тоже, скажем, его святейшество Лев Тринадцатый! Вообразите себе фортепьяно и пианиста. Внезапно во время игры инструмент отказывает – одна клавиша больше не звучит, несколько струн обрываются; конечно, на таком инструменте даже очень хороший пианист будет играть плохо. Но разве пианист перестает существовать, даже если рояль совсем замолчит?
– По-видимому, мозг – это фортепьяно, а душа – пианист?
– Старое сравнение, синьор Меис. Конечно, мозг испортился, душа становится глупой, безумной, еще какой-нибудь в том же роде. Но это значит лишь, что если пианист сломал инструмент не случайно, не по неосторожности, а по собственной воле, то он за это расплачивается: кто ломает, тот и платит – в мире за все надо платить. Однако это совсем другой вопрос. Простите, неужели для вас ничего не значит то обстоятельство, что все человечество, все люди, о которых мы что-нибудь знаем, всегда мечтали о жизни по ту сторону смерти? Ведь это же факт, факт, реальное доказательство.
– Говорят, инстинкт самосохранения…
– Нет, синьор, мне, знаете, наплевать на эту мерзкую оболочку, которая меня покрывает! Она давит на меня, я ношу ее, потому что должен носить, но если мне докажут, черт возьми, что, протаскав ее еще пять, шесть, десять лет, я не буду за это как-то вознагражден и что для меня все кончится здесь, я сегодня же, в эту же самую минуту отброшу ее. При чем же здесь инстинкт самосохранения? Я сохраняю себя единственно потому, что чувствую – так все кончиться не может! Но мне возразят: человек сам по себе – одно, человечество – другое. Особь умирает, род продолжает свою эволюцию. Вот так рассуждение! Подумайте сами: разве человечество – это не я, не вы, не каждый человек? Разве каждый из нас не чувствует, что было бы абсурдно и ужасно, если бы все сводилось лишь к ничтожному дуновению, которое представляет собой наша земная жизнь? Пятьдесят-шестьдесят лет скуки, несчастий, трудов, и во имя чего? Впустую! Ради человечества? Но ведь и человечеству когда-нибудь придет конец. Подумайте, жизнь, прогресс, эволюция – для чего все это? Зазря? Но ничто, абсолютное ничто, говорят, не существует… Значит, ради обновления светила, как выразились вы на днях? Хорошо, пусть обновление, но надо посмотреть – в каком смысле. Согласитесь, синьор Меис, что беда науки и заключается в том, что она хочет заниматься только жизнью.
– Ну, – вздохнул я и улыбнулся, – поскольку мы все-таки должны жить…
– Но мы должны также и умереть, – подхватил Палеари.
– Понимаю, но зачем же об этом так много думать?
– Зачем? Затем, что мы не можем понять жизнь, если как-нибудь не объясним себе смерть! Это же необходимое условие наших действий, это путеводная нить, выводящая из лабиринта. И этот свет, синьор Меис, должен к нам прийти оттуда, от смерти.
– Но ведь смерть – это тьма.
– Тьма? Да, для вас. А вы попробуйте затеплить лампадку веры чистым маслом души. Если такой лампадки нет, мы бродим по жизни как слепые, несмотря на электрический свет, который мы изобрели. Для жизни электрическая лампа хороша, великолепна. Но мы, дорогой синьор Меис, нуждаемся в другом светильнике, который озаряет нас. Видите этот фонарик с красным стеклом? Я зажигаю его по вечерам – нужно учиться видеть при слабом освещении. Сейчас мой зять Теренцио в Неаполе. Через несколько месяцев он вернется, и тогда, если вы захотите, я приглашу вас присутствовать на одном из наших скромных сеансов. И почем знать, может быть, этот фонарик… Довольно, пока я больше ничего не скажу.
Как видите, общество Ансельмо Палеари было не очень приятно. Но мог ли я, по здравом рассуждении, без всякого риска или, вернее, не принуждая себя лгать, надеяться на общество людей, не оторванных от жизни? Я вновь и вновь вспоминал кавалера Тито Ленци. В отличие от него синьор Палеари ни о чем не расспрашивал меня, довольствуясь вниманием, с каким я слушал его речи. Почти каждое утро после обычного омовения всего тела он сопровождал меня в моих прогулках; мы ходили или на Джаниколо, или на Авентино, или на Монте Марко, порой даже до самого Понте Иоментано, постоянно говоря о смерти.
«Нечего сказать, много я выиграл, – думал я, – оттого, что не умер на самом деле».
Иногда я пытался перевести разговор на другие темы, но синьор Палеари, казалось, не замечал зрелища окружающей его жизни. На ходу он почти всегда держал шляпу в руке; иногда он внезапно приподнимал ее, словно здороваясь с какой-то тенью, и восклицал:
– Глупости!
Только однажды он неожиданно обратился ко мне с личным вопросом:
– Почему вы живете в Риме, синьор Меис?
Я пожал плечами и ответил:
– Потому что мне нравится жить здесь…
– А ведь это печальный город, – заметил он, покачивая головой. – Многие удивляются, почему здесь не удается ни одно предприятие, не пускает корни ни одна живая идея. Но люди удивляются этому лишь по одной причине – они не хотят признать, что Рим мертв.
– Рим тоже мертв? – огорченно воскликнул я.
– Давно, синьор Меис. И поверьте, все попытки оживить его напрасны. Замкнутый в снах своего великого прошлого, он ничего не хочет знать о повседневной жизни, которая непрестанно кипит вокруг него. Когда город прожил такую исключительную и выдающуюся жизнь, как Рим, он уже не может стать современным городом, то есть таким, как любой другой. Разве эти новые дома – Рим? Послушайте, синьор Меис, моя дочь Адриана рассказала мне о кропильнице, которая висела в вашей комнате, вспоминаете? Адриана вынесла оттуда эту кропильницу, но вечером она выпала у нее из рук и разбилась; уцелела только раковина, которая стоит теперь на моем письменном столе – я приспособил ее именно для того, для чего вы по рассеянности воспользовались ею впервые. Такова же и судьба Рима, синьор Меис. Папы сделали из него кропильницу – в своем роде, конечно, – а мы, итальянцы, превратили ее в пепельницу. Люди изо всех стран съезжаются сюда стряхивать пепел со своих сигар. Какой символ нашей несчастной жизни и того горького, отравленного наслаждения, которое она нам дает!
11. Вечером, глядя на реку
Чем больше сближали нас уважение и симпатия, которые выказывал мне хозяин дома, тем труднее мне становилось общаться с ним; я и раньше испытывал в его присутствии тайную неловкость, но теперь она постепенно делалась острой, как терзавшие меня угрызения совести, ведь я втерся в эту семью под чужим именем, изменив свой внешний вид, живя придуманной, почти лишенной содержания жизнью. И я обещал себе по возможности стоять в стороне, ни на минуту не забывая, что я не вправе слишком приближаться к чужой жизни, должен избегать всякой интимности и довольствоваться существованием вне общества.
«Свободен!» – все еще повторял я себе, но уже начинал постигать смысл этой свободы и видеть ее границы.
Из-за этой свободы я, например, проводил целые вечера, облокотившись о подоконник и глядя на черную, молчаливую реку, которая текла меж новых домов, под мостами, где отражались огни фонарей, пляшущие как огненные змейки; я мысленно следил за этими водами, берущими начало далеко в Апеннинах и текущими через поля, город, потом снова через поля и так до самого устья; я представлял себе неспокойное, мрачное море, в котором, пройдя такой долгий путь, теряются эти воды, и время от времени утомленно зевал.