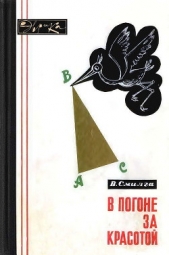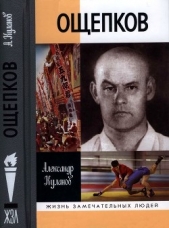Жареный петух

Жареный петух читать книгу онлайн
Первая книга писателя Е.Б.Федорова, лауреата парижской литературной премии им. В.Даля. Повесть "Жареный петух" публиковалась в журнале "Нева" (9, 1990) и была признана лучшей литературной публикацией года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ОБЛАКО В ШТАНАХ
Чем напряженнее вгрызаюсь и пристальнее втелескопливаюсь в плотную мглу затонувшего, канувшего в тщету и затхлое небытие прошлого, что есть мочи истощая внутреннее зрение, тем очевиднее становится, что превесьма много выветрилось, испарилось из памяти. О, где моя юность? Где мои восемнадцать лет? Где девятнадцать? Где двадцать? Где и так далее? Где мои серебряные коньки? Где соловей, шпак, пташка дрянь, зловредная, и его звонкие весенние, увлекательные, душераздирающие трели? Пара гнедых, запряженных с зарею, а? Где моя гитара семиструнная, балалаечка без струн? Эх, были когда-то и мы рысаками! Где, скажите на милость, это чертово обретенное время? Нет как нет, корова богатым языком напрочь слизнула, сжевала жвачными, мощными, упорными зубищами, проглотила с потрохами. Слабое утешение — оправдание: у других (Краснов, впрочем, исключение; у Краснова чертовски завидная память, прямо как у древнего философа Гергия) головы еще дырявее моей, решето (некоторые исследователи считают, что у Аристотеля была плохая память). Рыпаться, спросить, уточнить — не у кого; а Краснов — далече. К стыду своему, сплошь да рядом не способен толком, четко и без явных, грубых нелепостей и несуразностей реконструировать подробности ретроспективной дали, чин и черед темных событий прошлого, немых ныне, далеко уплывших. Наглядный и унылый, удручающий примерчик. Подельница Кузьмы горячо, настойчиво, искренне, старательно норовит всех и каждого уверить, что отбывала срок по бытовой статье и выскочила по знаменитой, бериевской амнистии. Что я о ней должен думать (врет и не краснеет?), когда Кузьма-то сидел по 58? Точнее: нежелательная -58-10, 11. Как не впасть в противоречия? Как избегнуть оплошностей, незлонамеренных недоразумений? неувязок? Думается, что не будет большим преувеличением, если я скажу, что мой друг Краснов взбрыкнул, сбрендил и произнес непредвиденную кощунственную речь где-то в 1949 году. Видится самое начало осени. Месяц готов назвать точно. Да, явно то было совершенно роскошное бабье лето, еще мы не напялили телогрейки, еще ходили по-летнему, налегке. А что уж бесспорно, что это было до семидесятилетия Сталина. Славное семидесятилетие — четкая, маяковая веха, это как-никак эпоха и волнующий неизвестностями рубеж в жизни огромной страны, раскинувшейся на два континента, а тем паче рубеж в жизни лагеря, самая темная длинная ночь, самый темный день в году. К этой дате стягивается, сгущается и уплотняется время, и от нее мы, зэки, счет дням и годам вели. Так будем же условно, гипотетически относить метаморфозу во взглядах Краснова к концу сентября 1949 года, когда в лагере еще пышно и донельзя бурно цвела надежда на общую политическую амнистию, циркулировали тоскливые, неправдоподобные, во упорные -слухи. Если не сильно в молоко я пуляю, то могу говорить, что такие блистательные, чарующие умы (разумеется, как и Гомер: "Только вождей кораблей и все корабли я исчислю"), как Коган, князь гуманитарных знаний, кладезь премудрости, Минаев, Грибов, Кузнецов, философ с головой Сократа, бесстрашный, как Геракл, Помераиц, Ляхов, Васильев, Васяев, Федоров, Тарасов, Татариицен еще не прибавились к народонаселению нашей благословенной, крепкосколоченной обители. Нет среди нас маститого, именитого Гладкова, автора бессмертной комедии "Давным-давно", которая не сходила со сцены театра даже после ареста автора. Доктора наук, кандидаты наук, писатели, артисты — хоть пруд пруди, кто только не обитает на нашем ОЛПе. Вот Рокотов, бестия, плут, отъявленный валютчик, миллионер. Но миллионером он стал в эпоху волюнтаризма и пустозвонства в конце пятидесятых годов, а со мною он сидит по статье 58-10. Вот я с шипящей пеной у рта уверяю вас, читатель, что каналья Рокотов (в те годы он не виделся мне продувной канальей, зто, увы, анахронизм) еще не появился на ОЛПе, а как же в таком случае смогли пересечься Рокотов и Бирон в карантине? И Магалиф где-то в зто время вынырнул; разразился и меня уже потчевал позмой "Шея Змея"(сам же обычно добавит в скобках: "Одиссея, эпопея"). Гениальное, сладкозвучное творение. Сохранилась ли поэма? Не исчезла ли? Неужели в самом деле и Рокотов, и Магалиф, и Гладков уже были на ОЛПе, а обильный урожай на остальную высоколобную интеллигенцию ухает на следующий год, на 50-й? Как разузнать, распознать, выверить? Знаю точно: 12 августа 1949 года первый раз проведать приехала моя Пенелопа, и нас оставили на ночь в комнате свиданий; стояла жарища, и я постеснялся захватить телогрейку, что привело к неудобствам: в комнате свиданий два стула, стол, жесткий пол. Как не помнить привалившего счастья, долгожданного, краткого, острого, а утром я отправился в контору, кемарил, клевал носом, а вечером опять свидание. Жена навещала меня два раза в году, летом и зимой, уезжала порожней, я шутил: "В неволе не размножается". Знаю, что 12 августа Краснов был еще при своих высоких, стройных, неколебимых убеждениях, а на его горизонте только что появилась прекрасная полячка. Метаморфоза: Краснов сражает меня неслыханными, крамольными, кощуиственными глаголами. В тот раз в 49-м году Нинка не брала с собою девочку, берегла. Правильно делала. Мала еще Леночка для таких передряг, мытарств. Пока доберешься до ОЛПа — замучаешься. Когда первый раз едешь, всех ухабов, где надо соломку подстелить, не знаешь. У нас-то роды кончились благополучно. Поголосила белухою женушка, повытирала рукавом обильные, соленые водопады слез, попричитала, как та незабываемая Ярославна, что из Путивля, да и успокоилась, родила здоровую девочку. А вот у Юрки нелады обалденные: у жены после ареста мужа молоко пропало. Тут как тут последствия: рак груди. Бедную женщину резали, сурово полосовали, кромсали эскулапы, замучали проклятые прежде, чем ее Бог прибрал, и она отошла в лучший, вечный мир, из которого нет никому возврата. Издержки истории. А у нас все в порядке. Слава Богу! Для сведения оброню, что я на редкость удачлив и счастлив в браке. Утешений и сладких радостей на стороне не ловил, придерживался жены. Позволю выразиться старомодно: Бог благословил меня тремя дочками. На современном языке, на языке неозаренного мира: настрогал трех дочек. Мудрец Еврипид пропел ямбическим стихом: "Душа всего живого в детях". Грибоедов выдал: "Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом". Какой зто ужас, когда подрастают дочери, и у них появляются кавалеры. Так бы и схватил ружье: "Субчик- голубчик, стой, не балуй! Такой-сякой, иемазаный, сухой. Не подходи, дрянь, к моим девочкам!". Дочки попали в приличные руки. Опять, слава Богу! Зятьями не то, что доволен, а так, могли быть хуже. А внукам, скажу, числа нет, целый выводок, мал мала меньше, млечный легион, устаешь от крика, возни, черт знает что творят, у каждого в заду пропеллер, бесенята, сорванцы, архаровцы, головорезы, егозы. Отрадно чувствовать себя эдаким гнездарем, корнем, патриархом Иаковом. Выражаясь языком Библии, от моего семени идет клан шустрых, здоровых, веселых отпрысков, прямо как от библейского патриарха Иакова идет двенадцать колеи неистребимого, как клопы и тараканы, еврейского народа, подарившего нам Книгу. Опять получается, что я нечаянно, ненароком скользнул вбок и прочь от центровой темы повествования. Но в свое оправдание скажу, что как раз в период, к описанию которого я боязливо приступаю: Краснов с жадным необузданным любопытством, с настойчивостью, как та девица из анекдота (а после? а потом? А после было раньше!), дотошно расспрашивал меня, как я женился, желал знать подробности. Я не считал нужным уклоняться от сей важной темы, охотно, честно, распахнул настежь окна души, все без утайки поведал другу милому, ничего не замуровал. Полезно будет вкрапить в повествование забавную сценку, так, штрих. На ОЛПе возник Фильштинский — выдающийси ум, интеллектуал, арабист, мыслитель. Об этом человеке стоит написать целый роман: судьба трагична. Вполне нормально, что таким ярким человеком заинтересовался юный философ; познакомились, что в лагере проще простого. Краснов пошел с ходу и с бестрепетным сердцем, как в случае с Бироном, насиловать бедного арабиста лекцией, упорядочивающей вселенную, которую читатель уже знает. Еще раз повторил и проверил пронзительные, занозистые идеи. Нас трое, Краснов, Фильштинский и я. У Краснова голова перевязана бинтами, под глазом — дуля, переливает всевозможными цветами радуги, украшен после злой баталии с Каштановым, о чем будет ниже, в своем месте. Вид Фильштинского одновременно и пришибленный, жалкий, в лагерной обновке второго срока, и надменный, серьезный.