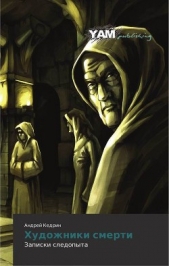Прозаические переводы

Прозаические переводы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда скульптор ушел, г-жа де Фонтенэ и Филипп Форбье внезапно смутились.
Он зажег в темной комнате газовую лампу, лампа эта под зеленым колпаком издавала огромный блеск, шумела, как большая бабочка, бьющаяся в окно.
Сабина, которой тоже нужно было идти, уже раскаивалась во всей своей комедии с Филиппом; ей хотелось объяснить ему это, сказать, что играла в это равнодушие сама не знает почему, — потому что всегда все делает не так…
Впрочем, она уже была жестоко наказана. Филипп не обращал на нее ни малейшего внимания. Он был очень любезен, но чисто внешне, и убирал рисунки в старый шкаф, стоявший у стены.
Сабина подходила к горящей печке, грела руки, немножко говорила. Она рассказывала, что была больна, что у нее внутренняя усталость сразу переходит в недомогание.
— Раз вы когда-то занимались медициной и сейчас еще имеете дело с клеточками, энергией, биологией и неизвестно еще чем, вы, правда, должны были бы мне сказать, почему я скоро умру…
Он отбросил назад волосы, поднял глаза, которые уже ничего не видели, и, с лицом, одновременно рассеянным и вдохновенным, сказал ей:
— Вы сумасшедшая…
Он не смотрел на нее, смотрел куда-то в сторону, хотел, казалось, сделать что-то совсем другое. Но она ясно видела, что он идет к ней навстречу.
Она протянула ему обе руки и, смеясь, вздохнула:
— Я ухожу, но мне очень грустно, и вы мне все-таки не сказали, как сделать, чтобы не было грустно.
Они прошли по комнате рядом; теперь Филипп стоял, прислонившись к шкафу, и держал перед собой Сабину. Он крепко, почти грубо держал ее за кисти рук и мгновениями взглядывал на нее. Она говорила, смеялась оживленно, беспорядочно и необузданно, ставя между собой и им, такими близкими, что-то быстрое и меняющееся, что не давало молчанию застать их врасплох, закрепить их смертельное ожидание.
Она боялась мгновения, когда больше не услышит собственного голоса; а он отвечал ей на все ее суетное многословие, — так ясно и нетерпимо звучали ее слова.
Она двигалась, движения ее век, ее шеи, всего ее существа делали ее, в глазах Филиппа, отдаленной и свободной, хотя он и держал ее.
Он не знал, что и думать об этой женщине, у которой слова противоречат взглядам, взгляды — движениям.
С минуту они оставались так. Филипп, очевидно, думал, потом сразу резко отпустил руки Сабины и, с лицом, опущенным и упрямым, вдохнув в себя изо всей силы — глубоко и отчаянно — воздух, сказал ей:
— Уходите… зачем вы пришли?.. разве я вас об этом просил? Я вас ни о чем не просил… Вы заставили меня слушать вас, взять на себя вашу отравленную жизнь. Разве я вас спрашивал о том, что вы любите, чего не любите?.. Какое мне было дело до ваших радостей и печалей?.. Мне до вас не было дела… У меня было то, чего я хотел, я ничего не хотел другого. Еще месяц назад я был спокоен… Ах! в первый раз, когда вы вошли, когда заговорили, я сразу увидел, что вы — опасная и скверная… Вы сами знаете, как смотрели на меня своими яростными глазами; но я забывал о вас, когда вас не было; я о вас не думал, я только смутно чувствовал, что вы живете; где и как — это меня не касалось. Это вы все возвращались… Вы взвалили на меня все мгновения вашей жизни, все ваши тайны, тайны, которые были в ваших глазах, более ясных и обнаженных, чем все слова… А теперь вам хорошо, вы довольны, и все кончено… Значит, уходите, идите, пожалейте меня хоть так.
Но она оставалась, еще более мрачная, чем он. Они уже не смели приблизиться друг к другу. Она чувствовала что-то сладкое и тяжелое, что окружало ее, облегало ее, как волна, и, подымаясь вдоль тела, заставляло ее откидывать голову, расширять ноздри, чтобы только еще дышать, не задохнуться. Глаза ее были пристальны и сужены, губы слегка обнажали сжатые зубы. Она точно вонзила их во что-то восхитительно-сладкое.
И потом страдальческая гримаса проходила по этому лицу, брови сдвигались. И это было, как крик, который разрешает боль.
Филипп снова подошел к ней и снова взял ее за руку, он держал ее за кисть и локоть; рассеянно, к чему-то прислушиваясь, он сжимал эту волнующую руку, как если бы хотел ее сломать, как если бы в этом — в это мгновение — все.
Сабина, неподвижная, смеялась новым, тихим смехом. Она говорила:
— Сломайте мне руку, что же вы не ломаете, я всегда хотела, чтобы мне делали больно…
Все ее черты изменились. Она чувствовала, что все ее лицо, в эту минуту, обратно ее душе, что смех ее — уже не от веселья или радости, а от пронзительного, глубокого волнения.
Она пошатнулась вправо, потом влево, она чувствовала страшную тяжесть в голове и, наконец, упала на Филиппа.
Он был только немного выше ее, и так как стоял, слегка нагнув голову, их лица окончательно встретились…
С этого мгновения вдоль ее души, вдоль всего ее существа опустилась — между ним и ей — большая тень, делавшая ее застывшей и замкнутой. Она уже не боролась. Она ничего ни хотела, ни не хотела; это была душа, которая не отвечала. Все ее взгляды обратились внутрь.
Выбора больше не было. Она сознавала, что то, что кончается сейчас, на груди этого человека — есть точная и невольная чистота ее жизни, невинность ее тела.
Это не изумляло, не потрясало ее, она это просто ощущала: это была мысль, сквозившая сквозь другую. Она не делала ни единого движения. Прикосновения лица и одежды, запах волос и табака были ей откровением. Такого изумления от объятия, такого неведения мужчины у нее не было, когда она выходила замуж.
Филипп слегка отодвинул ее, и взгляд его был так тяжел, что Сабина всем телом почувствовала, что умирает.
Она с быстрым и полнейшим буйством пожелала, чтобы не было у него больше ни этих глаз, ни этой улыбки, ни этого голоса, ни малейшего из этих движений, ничего, ничего этого, что так восхищало ее и так ранило…
Тогда она, со страшным напряжением воли, бросилась к нему на грудь, как об стену, о которую хотела бы разбиться.
Он поднял ей голову и заботливо, глубоко — как пьешь во время жаркой жажды — поцеловал ее в губы. Она вбирала этот поцелуй. Их смешанная жизнь спускалась, стекала тепло и тихо от одного к другому.
Сабина чувствовала себя одновременно мертвой и упорной.
Филипп, спрятав в нее голову, увлекал ее, шепчущий и страстный; она не смотрела куда. Отныне она всем существом вверялась всему, что он когда-либо захочет.
Вечер того дня Сабина провела спокойно. Вернувшись домой, она быстро оделась и занялась гостями, пришедшими к обеду.
Ни разу в карете, под звон дрожащих стекол, ни разу теперь, среди обычной обстановки, она не сказала себе, что у нее — любовник.
Как эта резкая, сногсшибательная формула, этот дерзкий вызов могли бы подойти к мгновению столь неизбежному и столь нежному, что оно казалось осуществленным желанием самой судьбы.
Смеясь и болтая с друзьями, делая все, как всегда, она чувствовала огромное успокоение. Радостная гордость вставала в ней, и душа ее, наконец, делалась совершенной, как цветок. Это было утешением за все ее прошлое. Только отсутствие Анри ее немного тревожило, с ним ей было бы спокойнее.
__________
Почти каждый вечер после четырех она подзывала карету, бросалась в нее и ехала к Филиппу Форбье. Париж, в синеватых сумерках, казался ей маленьким, мир — простым. Она знала малейшие подробности дороги. Улица Ансьен-Комеди, приближавшая ее к дому Филиппа, уже волновала ее темным волнением.
Иногда она приезжала первая и ждала. Она любила это ожидание. Ей казалось, что она его не вынесет и что друг ее, когда сейчас откроет дверь, найдет ее упавшей головой на руки, прямо мертвой от нетерпения. Дверь открывалась, Филипп входил. Г-жа де Фонтенэ смотрела на него издали, прищурясь, как смотришь утром на солнце, входящее в комнату… Потом что-то резко сталкивало их. Сабина неподвижно смеялась. Что-то нежной волной проходило по ее обмирающему телу; когда она в детстве слишком высоко взлетала на качелях, воздух вокруг нее так же рассекался, — и она падала в то же нестерпимое блаженство.