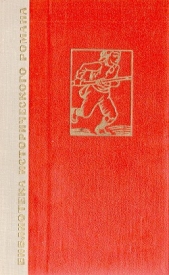История одного крестьянина. Том 2
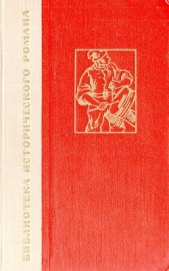
История одного крестьянина. Том 2 читать книгу онлайн
Тетралогия (1868-70) Эркмана-Шатриана, состоящая из романов «Генеральные Штаты», «Отечество в опасности», «Первый год республики» и «Гражданин Бонапарт».
Написана в форме воспоминаний 100-летнего лотарингского крестьянина Мишеля Бастьена, поступившего волонтером во французскую республиканскую армию и принимавшего участие в подавлении Вандейского восстания и беззакониях, творимых якобинцами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сын у нас родился, братец! Крепыш! Становись на дышло.
И, не прекращая пляски, он подсадил меня и помог взобраться на передок. Удивительно беззаботный народ, эти парижане: небо может смешаться с землей, а они все равно будут вытворять всякие глупости.
Став на оглоблю, я заглянул под парусиновый верх и увидел сестру: она лежала в настоящей постели, голова ее покоилась на большой подушке, а рядом с ней был малыш.
— А, это ты! — радостно воскликнула она. — Посмотри-ка, правда, красавчик?
Я взял на руки младенца, который оказался крупным и толстеньким, несмотря на все пережитые нами невзгоды, и от всего сердца расцеловал его. Он-то понятия не имел о бомбардировке, об опасности, о голоде; в воздухе летали искры и пепел, а ему все было нипочем — и грохот разрывающихся бомб, и царящее вокруг смятение: он спал, насупившись, сжав кулачки.
Когда я передавал его Лизбете, она увидела кровь у меня на руке и испуганно спросила:
— Что это у тебя, Мишель?
— Ах, это? — сказал я. — Это — ерунда. Мы как раз возвращаемся после вылазки… Какой-то гусар оцарапал мне руку.
Она как закричит:
— Мареско, Мареско, беги скорей за лекарем: брата ранило!
Тут я понял, что она меня любит. Федераты окружили меня.
— Какого же черта ты молчишь, гражданин Мишель?! — раздавалось со всех сторон.
Несколько человек поддерживали меня, точно я сейчас упаду; другие побежали за водой к баку; третьи принялись стаскивать с меня одежду. Доктор Бомпар, толстяк с широким носом и седыми бровями, в огромной треуголке, обтянутой клеенкой, со скатанным плащом через плечо, прибыл немедленно; он осмотрел мое рассеченное плечо и сказал, что мне повезло: хвати этот разбойник гусар чуть выше или чуть ниже, он перерезал бы мне крупную вену. Затем доктор промыл мне рану и туго перевязал руку бинтом, который хранился у него в сумке, похожей на лядунку. Солдаты молча наблюдали за всем этим. Я сразу почувствовал себя лучше, и мне уже не хотелось никуда идти, но доктор настаивал, чтобы я отправился в госпиталь, что мне вовсе не улыбалось.
Мареско, Лизбета из глубины фургона и все прочие твердили:
— Иди немедленно в госпиталь! — Хотели даже отвести меня туда, но я заявил, что пойду один, а отойдя немного от них, свернул к нашей казарме, ибо немало наслышался о том, как раненые заражаются в госпитале всякой пакостью; к тому же я не очень склонен был доверять лекарям республики, которых по большей части набрали из брадобреев и зубодеров, явившихся по первому зову.
Итак, я отправился в казарму и лег рядом с Жан-Батистом Сомом — добрая половина коек пустовала. Слава богу, я заснул, а на другой день назначены были крестины сына Мареско в присутствии писаря, и я, ни слова никому не говоря, после переклички, преспокойно отправился на площадь св. Игнация, где федераты расположились в своих палатках на бивак. Плечо у меня горело, но я думал: пусть лучше умру на месте, а в госпиталь не пойду.
Лизбета очень обрадовалась и в то же время удивилась при виде меня, но, чтобы избавиться от нудных наставлений, я сказал ей, что плечо у меня не болит.
Итак, писарь вписал младенца в реестр третьего батальона парижских федератов под именем Кассия, родившегося 28 июня 1793 года от маркитанта Франсуа — Бернара Мареско и его законной супруги Лизбеты Бастьен. Затем начался пир под открытым небом, — так сказать, патриотический обед, на котором вдосталь было конины, кошек и крыс, равно как вина и водки; только хлеба было маловато, ибо пруссаки пустили по реке большие бревна и сломали мельничные колеса; приходилось молоть муку на ручных мельницах, и вот тут-то и стало ясно, что в Майнце были предатели, потому что чуть ли не каждый день мы меняли расположение наших складов и мельниц, но, куда бы мы их ни перемещали, всякий раз бомбардировали именно их.
Впрочем, не в этом сейчас дело. Патриотический праздник был устроен со всей пышностью, на какую мы в нашем положении были способны, и я даже унес с него хороший кусок конины для Жан-Батиста Сома, чем немало его порадовал.
В городе началась опасная болезнь, объяснявшаяся не только голодом, но главным образом тем, что люди ели лошадиные трупы, которые они вылавливали из Рейна. Те, кого поражала эта болезнь, уже не поправлялись: ничто не могло их спасти. Все наши госпитали были переполнены — в городе на каждом шагу попадались носилки. Поэтому-то на улицах можно было увидеть столько раненых. Они предпочитали сами себя выходить, чтобы не подвергаться заразе.
Вот и я не уходил из батальона; подвязав руку, я даже нес службу на аванпостах и готов был в случае необходимости вместе с товарищами ударить в штыки.
Немцы изрыли всю землю вокруг нас и подвели свои траншеи почти к нашим редутам, — с высоты крепостного вала казалось, что смотришь на огромное поселение кротов. Добрая половина солдат день и ночь находилась под открытым небом, возле пушек, с зажженными фитилями. Невозможно было глаз сомкнуть — только и слышалось: «Wer-da?», «Кто идет?», «Берегись!» — и выстрелы в противника, который находился в каких-нибудь пятидесяти шагах от тебя. Все перемешалось: пруссаки были у нас, мы — у пруссаков.
Но это еще что! А вот маневр, который предпринял неприятель, чтобы овладеть нашими небольшими фортами на островах Рейна, был действительно из ряда вон выходящий. В одной деревеньке, повыше Касселя, рота голландцев, находившихся на службе у прусского короля, строила плавучие батареи, и каждый день у нас возникали слухи, что эти батареи вот-вот пожалуют к нам. Прошло месяца полтора, и все уже перестали в это верить, как вдруг в одно прекрасное утро они появились и, подгоняемые течением, тихонько поплыли к островам. Я как раз был в редуте Карла; погода стояла великолепная, и вот представьте себе, на зеркальной глади Рейна, блестевшей под солнцем, появляются большие квадратные срубы футов в пять или шесть высотой, с амбразурами для пушек, глухие, как казематы.
Мы стояли слишком далеко от этих плавучих батарей и не могли их обстрелять, но, когда они подошли к островам, обе стороны открыли огонь. Каждое ядро, упав в реку, поднимало столбы воды, сначала в десять — пятнадцать футов высотой, потом в восемь, в шесть и так далее, пока не погружалось на дно, — словом, весь его путь был, так сказать, на ладони. Рейн, такой спокойный всего несколько минут назад, вспенился под градом ядер и картечи; а плавучие батареи — среди дыма и громовых раскатов эха — медленно продвигались вперед. Наконец они пристали в месте, укрытом деревьями, как раз напротив островов: теперь они могли с тыла обстреливать наши батареи, а бомбы и гранаты, посылаемые из наших редутов, не долетали до них. Вскоре всякому стало ясно: каких-нибудь двадцать четыре часа такого обстрела — и нам придется оставить острова.
В тот день все впали в уныние — от коменданта крепости до последнего солдата. Чего там скрывать: если пруссаки овладеют островами, их пушки разрушат наши мельницы и древние крепостные стены, что тянутся вдоль реки, и тогда неприятель поведет на нас атаку со всех сторон.
Вот о чем думали все.
Вечером, вернувшись в крепость, мы узнали, что решено атаковать плавучие батареи; нашлись добровольцы, которые уже отправились в Кассель и постараются любой ценой снять батареи с якоря. Из нашего батальона вызвалось двенадцать человек, в том числе дядюшка Сом и долговязый Лафлеш из Эминга. Мы, конечно, не знали, как решит действовать начальство, но подняться вверх по течению на лодках и потом напасть на этакие махины — дело нешуточное. К счастью, луна была на ущербе и слабый свет звезд не мог рассеять густой тьмы.
Часов до двух ночи все было спокойно: казалось, неприятель решил не мешать нашему сну, ибо обычного обстрела что-то не было. А в два часа далекий грохот пушек и треск ружейных выстрелов нарушили тишину и оповестили нас о том, что атака началась. Я очень страдал от раны и, сидя на кровати, думал:
«Бедный дядюшка Сом!.. Вот этим самым выстрелом, может быть, сразило тебя!»
У меня сердце сжималось при виде пустых коек в разных концах большого помещения, в простенках между окнами, куда заглядывали звезды. Эта ночь была, пожалуй, самой скверной за все кампании, в каких мне довелось участвовать: меня бросало то в жар, то в холод, плечо у меня горело, и мысли в голове путались, как у сумасшедшего. Я выпил целый кувшин воды, походил, прислушиваясь, и наконец под утро заснул; проснулся я, когда было уже совсем светло, от радостных криков, пения «Марсельезы» и «Наша возьмет!». Нашим ребятам удалось спять с якоря одну из плавучих батарей: они перерезали канат, на котором она держалась, и батарея, кружась, поплыла по Рейну, пока не затонула неподалеку от Касселя, подбитая огнем нашего форта; все, кто находился на ней, — сдались.