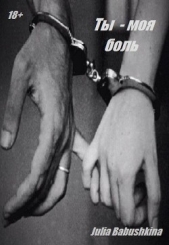Чего не было и что было

Чего не было и что было читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот, хотя бы, такой факт: церковная молодежь, поскольку она не клонится к монашеству или не остается в обывательщине, — непременно правая. Это естественно вытекает из современной церковной «системы жизни», при которой, по Бердяеву, «ничто не нужно», но которая «сама возможна лишь при существовании православной монархии». И, на практике, молодежь оказывается «прислоненной» к «церковным» людям По всей линии, вплоть до «политиков», чей лозунг: за Царя… и Церковь, его помощницу.
Бердяеву этот факт (такой простой — и такой страшный!), Вероятно, не понравился бы, если бы он его увидел. Но и в этом случае бороться с ним он бы не мог. Как бороться с реальностью — воздушной рапирой, словами, которых даже не слышат ощутившие подлинную силу церкви?
Мало того: ведь и у Бердяева, у его единомышленников — реальность только одна: та же, данная, православная церковь. «Богословствование» в ее ограде — спор на корабле: двигается ли корабль и куда, стоит ли неподвижно — все равно, никто не рискнет броситься с него в море, променять его надежную спасительность на зыбкость своих идейных устремлений. Таким образом, богословствующие, отвергая идею церкви о «святом эгоизме» на словах, — на деле, в жизни, в реальности — ее принимают.
Я намеренно ограничиваю себя лишь исследованием данного, определением центрального вопроса «Пути» и положения группы ближайших сотрудников журнала среди окружающей их действительности. Самого «вопроса» я не касаюсь, в существо спора не вхожу и не хочу входить. Единственный ли стержень православия — сияющая, спасающая душу, небесная святость, или должно оно, «истинное», склониться к земному «миру, лежащему во зле» — пусть решает это, кто может. Одно ясно (что мне и хотелось показать): внесенный в ограду церковную вопрос о «церкви и мире» ни решиться, ни даже решаться не может. Спор теряет там всякое значение и для реальной церкви и для реального мира. Если желать и стремиться, чтобы к исконным своим ценностям — жертвенности, подвига и личного спасения — церковь прибавила и ценности, творящиеся «в миру», нужно быть готовым тоже к подвигу, к жертвам, вплоть до риска «самоспасеньем».
Участники «Пути», для которых, как для Бердяева, данный вопрос действительно является «узловым», должны, в конце концов, сознать необходимость аскетигеского момента по отношению к православию. Пока этого нет — их споры остаются умным, церковно-интеллигентским «богословствованием», интересным «раздражением пленной религиозно-философской мысли». А жизнь церкви и жизнь мира идет, как шла, своим чередом и своими, отдельными, путями.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Позволяю себе сделать некоторые поправки и дополнения к статье Е. Шевченко о «Лит. псевдонимах».
Действительно, «Тоска по смерти» (в журнале «Полярная Звезда») за подписью Н. Ропшин, принадлежит мне. Но Антон Крайний начал свою деятельность не после 1906 г., а гораздо раньше, в 1902 г., в журнале «Новый Путь», и с тех пор продолжал ее непрерывно во многих других изданиях. В конце 1906 г., уже вышел сборник моих статей «Литературный Дневник».
Я, однако, часто писал и пишу под разными псевдонимами, в зависимости от обстоятельств. Г. Е. Шевченко пишет, что Савинков «перенял» мой псевдоним. Это может быть понято так, что Савинков «взял» его, потому что он ему понравился. Но дело обстояло иначе.
«Тоска по смерти» была напечатана раньше, чем мы с Савинковым познакомились. Во всяком случае — раньше начала каких бы то ни было литературных опытов Савинкова. Когда, через некоторое время, эти опыты начались и когда стали выливаться и вылились в роман, этот роман мне показался достойным всяческих хлопот, чтобы его напечатать. (Не забудем цензуру, имя Савинкова, известное не в литературе и т. д.) Мне помогло то, что я как раз, к окончанию романа, возвращался в Россию, где стал в близкое отношение к редакции «Русской Мысли».
Однако роман, много раз переписанный, в последней редакции имел заглавие «Дела и дни», а подпись — В. Н. Это мне показалось неудовлетворительным. Тогда, вспомнив о моем псевдониме Н. Ропшин, которым была подписана единственная статья, — в «Полярной Звезде», — я предложил его Савинкову, и он предложение принял. Что касается заглавия, то мне пришлось проставить его уже в Москве, наспех, взяв соответствующий эпиграф, и уж затем оповестить автора. Впрочем, Возражений с его стороны не было, заглавие ему, кажется, тоже понравилось. К сожалению, он повторил его, или почти повторил, желая сделать последний свой роман продолжением первого. Это была во всех смыслах, внешне и внутренно, литературно-художествен, ошибка, тем более, что и по содержанию «Конь Вороной» не может считаться «продолжением» «Коня Бледного».
Впрочем, это я, в свое время, отметил в критике.
Само собою разумеется, что, предлагая свой псевдоним Савинкову, я тем уже отказывался от дальнейшего им пользования, что и исполнил.
Так как, действительно, начало моей статьи (которую я не видел с 1907 г. и не имею) наводит на ассоциации с концом самого Савинкова, то я думаю, что заметка Е. Шевченки, а также мои дополнения и поправки, полезны для устранения будущих, — возможных, — недоразумений.
Париж,
25-4-26
ВСЕ НЕПОНЯТНО
«…От первых сознательных дней, в самом раннем детстве, я уже взглянул на жизнь, как на нечто мучительно странное… В иные мгновенья я, со внезапным ужасом, осматривался и говорил себе: да что это такое?! Зачем я должен во всем этом участвовать?!.. и хотя бы на одну страшную секунду, но уже тогда мутилась моя мысль до отчаяния, я чувствовал, будто падаю в бездну…».
Острота этих первых переживаний ошеломила его, и так, ошеломленным, он навсегда и остался. Ему даны были и ум, и недюжинный талант, и добрая, хорошая натура, но в таком несоответствии с ощущением загадочности бытия, что перед этим ощущением, он был бессилен. Старался жить, «как будто ничего»; легкомыслие помогало отвлекаться от недоуменной пристальности; но не всегда. И напрасно пробовал он подходить к ошеломившим его загадкам — с рассуждениями ли, от чувства ли прекрасного, или даже от сердца: ничего не получалось. «Его эстетизм был угрюм», — сказал один критик. Нет, пожалуй; но и на эстетике его, и на рассуждениях лежала печать покорной беспомощности, постоянной детской опечаленности.
«Что такое — я? что такое любовь? что такое смерть? Все непонятно!». Философ, художник, или просто сильный характером человек, справляется с этими загадками жизни, каждый по-своему, для себя. Но как справиться тому, чей ум, талант, характер, ценные безотносительно, — ничто перед ошеломляющей силой ощущения всенепонятности?
Об Андреевском было множество разных мнений: в большинстве хороших, никогда особенно дурных. Почти все считали его «дилетантом»: художники — дилетантом в искусстве, адвокаты — в адвокатуре. Тут есть доля правды. Только «дилетантизм» надо взять безмерно глубже, как дилетантизм в земном бытии; тогда, может быть, сквозь самую слабость этого навеки опечаленного человека, мы увидим «необщее выраженье» его души.
Два есть беспристрастия: любовное и не любовное. К Сергею Аркадьевичу Андреевскому, за долгие годы нашей близкой дружбы, у меня всегда было беспристрастие любовное. С этим беспристрастием и хочу я рассказать о нем — человеке.
Ну, я ушла.
Куда? Подождите.
Нет, я пошла. Надо читать!
Смеется, забавно, по-детски, морща нос, и с ленивой грацией поднимается с моего низкого дивана. В Андреевском, во всей его длинной, стройной фигуре, много изящества, много именно грации, женственной, природной, без всякого «мужского» фатовства. Он это знает. Поэтому и шутит со своим «пришла, ушла». Забегая ко мне постоянно, — «на 17 минут!» — всегда затем отправляется «читать». Неизвестно что, может быть, дело, может быть, Пушкина. Я не спрашиваю, смеемся, прощаемся. За эти семнадцать минут, он уже успел рассказать все про себя, — от важного до потери любимого кашне (впрочем, и это важно, кашне для него драгоценность!).