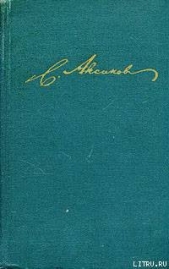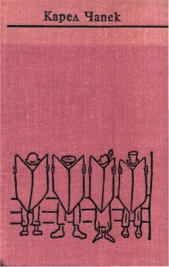Том седьмой: Очерки, повести, воспоминания

Том седьмой: Очерки, повести, воспоминания читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все поклонились и поспешили занять свои места. Он бережно отодвинул от себя поднос с сахарною и зельтерскою водою, с лимонадом, оршадом и всем, что ставят обыкновенно в таких случаях под носом чтеца, чего почти никогда не пьют и от чего бывает только теснота на столе. Потом он начал читать приятным, густым баритоном.
Взглянем прежде на гостей, потом послушаем.
Гости расположились на креслах, патэ, dos-à-dos и другой покойной мебели неправильным полукругом, в три ряда.
Впереди сидели дамы. Одна – княгиня Тецкая с дочерью. Княгиня, в темном платье моар-антик, в бархатной
104
мантилье, которую сбросила на спинку стула, с сафьянным красивым мешком, откуда она достала какое-то вязанье с белыми костяными спицами и начала работать, впрочем, кажется, больше для вида, потому что из пяти только один раз попадала спицею как следует. Она часто опускала руки с вязаньем на колени, беспрестанно вздрагивая, будто от испуга или от внезапной боли, и сильно мигая. Иногда даже у нее вырывалось нечто вроде «аха» или «оха», сопровождаемого опять вздрагиванием. На это почти никто не обращал внимания; все знали, что у нее «нервы», и привыкли к этому.
На лице и во всей фигуре княжны, ее дочери, напротив, покоилось ненарушимое спокойствие; ни удовольствия, ни скуки не выражало это лицо. Можно было бы назвать его мраморным изваянием, если бы – когда в романе заходила речь о любви – это лицо не принимало внезапно выражения ничего не понимающей невинности.
Княжна сидела несколько впереди всех. Свет лампы сбоку ярко освещал ее голову, бюст и руки.
Она была одета в розовое с белым отливом платье, в руке держала черепаховый веер, на коленях был небрежно брошен кружевной платок. Мать часто оглядывала туалет дочери: не отделилась ли какая-нибудь непокорная прядь волос, правильно ли лежит на шее и на груди цепочка с бриллиантовым крестиком, красиво ли драпируется шлейф около ног. Носок розовой миниатюрной ботинки кокетливо выглядывал из-под платья и все время, пока продолжалось чтение, оставался на виду.
Подле них, немного позади, поместилась полная, кругленькая, невысокого роста дама лет тридцати, с голубыми, как небо, детскими глазами, в голубом платье, с голубым же головным убором. На ее большом и красивом, как у здоровой кормилицы, лице разливались широкие пятна румянца и с губ не сходила улыбка, тоже детская. Она вошла с этой улыбкой, здоровалась ею же со всеми, с улыбкой слушала чтение и уедет с тою же стереотипною улыбкою, которая так же известна была всем ее знакомым, как и вздрагивания и «ахи» княгини Тецкой или выражение непонимания при намеках на любовь на лице княжны. Она являлась с этою улыбкою везде, даже на похороны – и теперь таяла от удовольствия, еще до начала
105
чтения. «Çа doit être joli!»1 – шептала она соседям. Это была известная в свете вдова Лилина, всегда всем довольная, всех любившая и всеми любимая и балуемая, и страстная охотница до домашних спектаклей, всяких чтений и концертов.
Подле самого автора, вплотную к нему, присел старик граф Пестов, светская окаменелость, напоминавшая Тугоуховского. Он уже лет десять смотрел тусклым взглядом вокруг себя, не всегда и не все понимая, что происходит. Он поминутно забывал, о чем говорит, иногда и с кем говорит, подчас не узнавал даже родных внуков. Зато, как это часто бывает с долговечными стариками, он помнил до мелочей свой век, с начала нынешнего столетия, и служил живым архивом для справок; он помнил всех современников, крупные события и мелкие сплетни, хронологию, анекдоты, даже у кого в доме когда собирались, чей лучше был повар и т. п. Его возили везде, как и Тугоуховского, между прочим и потому, что он боялся оставаться один дома и умереть. Привезут его, посадят в покойное кресло и посылают то того, то другого гостя по очереди поговорить с ним, потом оставят. А он посидит, пожует губами, пошепчет что-то и задремлет.
Он, приставив руку к уху, внимательно слушал чтение.
Далее, в тени абажура лампы, поместилась на маленьком патэ та дама, которую пригласил автор, графиня Синявская, и рядом, близко, почти на колени к ней, прильнула семнадцатилетняя прелестная брюнетка, ее дочь, в простом розовом барежевом платье, с кисейным шарфом на шее, без веера, даже без перчаток, которые она сняла, лишь только села, и положила на столик рядом. У нее с кистей рук еще не спала, как у многих подростков, краснота молодой крови. Ее светло-карие глаза сыпали снопы лучей наивной, нескрываемой радости от всего, что она тут видит и слышит. Она робко, стороной, бросала застенчивые, но любопытные взгляды на все и на всех: на автора, на глухого графа Пестова, на нервные вздрагиванья княгини Тецкой, на туалет княжны и Лилиной – и потом смотрела на мать, как будто спрашивая, так ли она держит себя, как следует.
106
Мать отвечала на ее взгляд улыбкой, какая бывает только у матерей. Видно было, что дочь выезжает недавно и что все ей было новость.
У самой графини был изящный профиль, матовая белизна лица, темносерые умные глаза и какая-то тонкая, загадочная улыбка, так что нельзя было угадать, порицает она ею или одобряет что-нибудь, радуется или смеется про себя.
За эти умные глаза и загадочную улыбку – ее прозвали сфинксом. Она была еще молода, и в особенности моложава, так что казалась скорее старшею сестрою, нежели матерью своей дочери.
Она мельком давно оглядела слушателей, потом почти не спускала глаз с автора, иногда взглядывала на дочь, говорила ей тихо, с улыбкой, слова два и опять слушала чтение.
Автор, отрывая глаза от рукописи, каждый раз прежде всего обращал взгляд на графиню, очевидно справляясь с ее впечатлением, потом уже переходил к сидевшему близ нее старику Чешневу, а на остальных изредка кидал общий, неопределенный взгляд.
Старик Чешнев сидел на стуле, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу.
У него были редкие и мягкие седины, благодушное, почти женское выражение лица и умные, проницательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинув немного назад голову, с большим, открытым лбом, он слушал внимательно чтение, как будто вокруг никого и ничего не было.
За ним, во второй шеренге, помещались: профессор словесности, потом тот гость, которого в качестве литературного эксперта пригласил на чтение хозяин, потому что он был знаком с Гречем и Булгариным, и еще пожилой беллетрист Скудельников.
Профессор слушал с строгим, официальным вниманием, склонив немного голову набок и сохраняя приличную случаю мину.
Приятель Греча и Булгарина – слушал, опустив подбородок в широкое жабо галстука, иногда покачивал головою или зевал в ладонь и рассеянно поглядывал на картины, развешенные на стенах.
107
Сосед их, беллетрист Скудельников – как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза, взглядывал на автора и опять опускал их. Он, повидимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе – вообще ко всему вокруг себя.
Григорий Петрович вытащил его из его гнезда, обещал хороший роман, хорошее общество, хороших, даже прекрасных дам и хороший ужин. Он и приехал.
Дальше сидел приглашенный племянником-студентом, по просьбе дяди, редактор журнала, среднего роста, средних лет, довольно полный блондин, приличной наружности, во фраке, в белом галстуке и с gibus1 в руках, слушавший чтение с выражением учтивого равнодушия на лице.
Потом сидели человека два-три таких слушателей, которые находили, что если зовут на чтение чего-нибудь, то это должно быть очень хорошо. За ними помещались и такие, которые были всегда того мнения, что если зовут на чтение, то непременно будет очень скучно.
Между последними особенно выдавался гость, пожилой, полный, с одышкой, Иван Ильич Сухов, который был приглашен потому, что был короткий приятель и любимый застольный товарищ хозяина – и в совете, и в английском клубе. Он обнаруживал кое-какие знаки нетерпения при чтении: дышал громко, то ртом, то носом, иногда прикрывал рукою зевоту и пробовал заговаривать с соседями, чаще всего с военным генералом, еще не старым, крепким, здоровым человеком, с бодрой осанкой и простым, но энергическим выражением лица. Он был известен как отличный боевой генерал и вместе хороший администратор по военной части и на литературу смотрел несколько с боевой точки зрения, читая, что попадется, в виде отдыха, а чаще и вовсе ничего не читая. Он с хозяином, с Суховым и с самим автором романа был в постоянных сношениях и в службе, и в обществе, и они составляли собою свой тесный кружок.