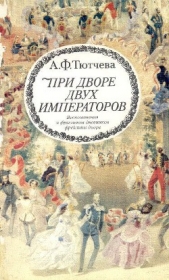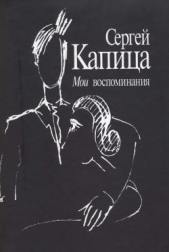Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
«Обо мне что угодно говорят и печатают… Неужели я таков?! Скажите, что я еще в сто раз хуже – и из двадцати человек десять поверят. Худому верится как-то легче, нежели хорошему… С тех пор, как я начал мыслить и рассуждать, я мыслю вслух, и готов всегда печатать, во всеуслышанье, все мои мысли и рассуждения. Душа моя покрыта прозрачною оболочкой, через которую каждый может легко заглянуть во внутренность, и всю жизнь я прожил в стеклянном доме, без занавесей…
Понимаете ли вы, что это значит? Оттого-то я всегда имел так много врагов! И пламенных друзей, из которых один стоил более ста тысяч врагов! Почти двадцать пять лет кряду прожил я, так сказать, всенародно, говоря с публикой ежедневно о всем близком ей, десять лет, без малого, не сходил с коня, в битвах и бивачном дыму, пройдя, с оружием в руках, всю Европу, от Торнео до Лиссабона, проводя дни и ночи под открытым небом, в тридцать градусов стужи или зноя, и отдыхая в палатах вельмож, в домах граждан и в убогих хижинах. Жил я в чудную эпоху, видел вблизи вековых героев, знал много людей необыкновенных, присматривался к кипению различных страстей… и кажется… узнал людей! Много испытал я горя, и только под моим семейным кровом находил истинную радость и счастье, и, наконец, дожил до того, что могу сказать в глаза зависти и литературной вражде: что все грамотные люди в России знают о моем существовании! Много сказано – но это сущая правда! Вот права мои говорить публично о виденном, слышанном и испытанном в жизни...»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я уже не застал в корпусе порядка, заведенного графом Ангальтом, но попал, так сказать, в разведенный им рассадник, в кадетское поколение, которого более половины еще со слезами вспоминало о нем. Почти все кадетские офицеры были воспитанники графа Ангальта или прежние, образованные им гувернеры. Корпус подобно сосуду, в котором хранилось драгоценное благовоние, еще благоухал прежним ароматом. В рекреационной зале еще стояли бюсты великих мужей, которых жизнь и подвиги толковал граф Ангальт кадетам, возбуждая в них идеи славы и величия; еще каменная стена, вокруг корпусного сада, красовался эмблематическими изображениями, поучительными изречениями, афорисмами, нравственными правилами мудрецов, и эпохи важнейших событий в мире были начертаны хронологически, для пособия памяти. Довольно было выучить наизусть все написанное на этой стене, чтоб просветить разум и смягчить сердце юноши. В корпусном саду еще существовала беседка, в которой кадеты танцевали, в праздничные летние дни. Перед глазами нашими возвышалось огромное здание (jeu de paume), где в присутствии графа Ангальта, кадеты упражнялись в гимнастике. Осталось в корпусе еще несколько знаменитых преподавателей наук времен Ангальтовских (математик Фуссе, физик Крафт, и проч.), но не было уже отца, благодетеля, мудрого Ментора, посвящавшаго кадетам всю жизнь свою, все свое время, все способности своей души и разума, не было графа Ангальта, руководствовавшего кадет к добру, ободрявшего прилежных, усовещивавшего ленивых, и лаковостью и примерами добра возбуждавшего в юношах чувства чести, благородства и собственного достоинства!
В последствии корпус состалвял батальон из четырех мушкетерских и одной гренадерской роты, и при батальоне было малолетнее отделение (прежний первый возраст). Кадеты ротные носили уже мундиры, по общему образцу, и пудрились при парадной форме. Малолетное отделение сохраняло прежние французские кафтаны (коричневого цвета), а дома малолетные кадеты носили куртки и шаровары. Be новыя учреждения и преобразования начались еще при императрице Екатерины II, во время Директорства Генерал-поручика Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова (бывшего потом Светлейшим князем Смоленским и Фельдмаршалом).
После Графа Ферзена управлял временно корпусом Генерал-майор Андреевский, до марта 1799 года, а в это время назначен директором генерал от Инфантерии граф Матвей Иванович Ламсдорф. При Андреевском и Ламсдорфе не было больших перемен, и все оставалось на основании порядка, введенного М.Л.Кутузовым.
В малолетном отделении не было ничего военного: это был пансион, управляемый женщинами. Малолетное отделение разделено было на камеры (chambre), и в каждой камере была особая надзирательница, а над всем отделением главная инспекторша (inspectrice), мадам Бартольде меня отдали к самой нежной, к самой ласковой, добродушной надзирательнице, мадам Боньот. Граф Ферзен поручил меня особенному ея надзору и попечению, а кроме того, моя мать, познакомившись с нею, приобрела ея приязнь. У мадам Боньот были две дочери (Елисавета и Александра) и старушка мать, мадам Кювилье, добрыя и ласковыя создания, и все они меня ласкали и нежели, В квартире мадам Боньот были мое фортепьяно, гитара, сундук с нотами, книгами и игрушками, и я имел право в каждое время (исключая класснаго) приходить туда, как домой.
Но, не взирая на материнское обхождение со мною мадам Боньот и на ласки ея семейства, мне было весьма тяжело привыкать к кадетской жизни, – родители непомерно баловали меня, как меньшее дитя и единственное от второго брака. Все знакомые, из угождения родителям, также ласкали меня; слуги повиновались безпрекословно. Я пользовался полною свободою и в родительском доме; и у Кукевича, а тут вдруг попал в клетку! Надлежало есть, пить, спать, играть и учиться не по охоте, а по приказанию, в назначенные часы. – Учителя были люди холодные, исполнявшие свое дело механически. Знаешь урок – хорошо, не знаешь – на колени или на записку [22]. – Когда дежурили другая мадамы, а не мадам Боньот, то для меня не было никакого предпочтения. Напротив, меня держали строже, называя баловнем мадам Боньот! Кадеты дразнили меня за то, что я дурно произносил по-русски. Няньки обходились со мною довольно круто. – Я не понимал всего, что мне толковали по-русски учители, следовательно и не мог успевать за другими. Меня стали наказывать. Выведенный из терпения привязчивостью кадет, я стал драться с самыми дерзкими из них; наказания усилились. Наконец, оскорбленный несправедливостью, я сказал что-то неприятное главной инспекторше; меня посекли розгами, и я пришел в отчаяние! Я лишился сна и аппетита, прятался от всех, плакал украдкой днем и по ночам, тосковал и грустил. Ужасная идея, что родители не любят меня, овладела мной и мучила меня! Я судил по себе и рассуждал, что если мне тяжело расставаться с теми, кого я люблю, то и родителям моим не надлежало расставаться со мной, если бы они меня любили. Эти мрачные мысли сокрушали меня и ожесточали. Я был холоден с матерью и сестрой, и даже не хотел ездить к ним… Наконец я не мог выдержать этой внутренней борьбы – и заболел. Меня отвели в госпиталь, над которым начальствовала мадам Штадлер. У меня открылась изнурительная лихорадка.
Матушка испугалась. Она каждый день навещала меня и просиживала по несколько часов у моей кровати. Долго я преодолевал себя, и наконец высказал ей все, что у меня было на душе. Матушка пришла в отчаяние и хотела взять меня немедленно из корпуса; но сестра и все ее приятели отсоветовали ей это. Матушка старалась всеми силами убедить меня в своей любви, но сомнения мои не рассеялись. Признаю теперь весьма уважительными причины, побудившие матушку отдать меня в корпус, которых я тогда не понимал; но сознаюсь откровенно, что и теперь не постигаю, как родительское сердце может решиться на разлуку с малолетним дитятей, как может мать отдать малолетнее дитя на чужие руки! Этот героизм выше моих понятий!
Горе развивает разум. В госпитале я имел время на размышление и, разбирая мое положение, рассматривая его со всех сторон, я решился покориться судьбе, победить все трудности, сделаться самостоятельным, и жить вперед без чужой помощи. По выходу из госпиталя я стал день и ночь учиться, чтобы догнать товарищей, и, при моей необыкновенной памяти, вскоре их перегнал. Впрочем, курс наук в нижних классах был самый ничтожный, и я уже знал почти все, чему надлежало учиться. Вся трудность была в русском языке, и когда я преодолел ее, то был немедленно переведен в первый класс.
Между тем, матушке надлежало возвратиться домой, и она простилась со мной, отдав для меня деньги на руки мадам Боньот. Тяжела была разлука с матерью, особенно при укоренившейся во мне мысли (впрочем, вовсе несправедливой), будто меня не любят! После узнал я, что меня отдали в корпус не только против воли, но даже без ведома моего отца. Это рассказал мне верный слуга его, Семен. Отец пришел в отчаяние, когда матушка сказала ему, что оставила меня в Петербурге, на чужих руках. В первый раз в жизни он заплакал и зарыдал при людях, требуя, с воплем отчаяния, своего сына! Разлука со мной имела пагубное влияние на его уже расстроенное здоровье и ускорила его кончину: это он даже написал в предсмертном своем письме ко мне. Он собирался ехать в Петербург, но состояние здоровья не позволяло ему этого. От весны до весны он жил надеждой на свидание со мной, пока смерть не разлучила нас навеки! Судьба позволила мне только поплакать на его могиле!..
На одиннадцатом году (1799 году) меня перевели, вследствие экзамена, в гренадерскую роту, которой начальствовал полковник Пурпур.
Не помню я, чтобы в нашем корпусе был хотя один из моих соотчичей. Кажется, я был первый из дворян новоприсоединенных от Польши провинций. Кадеты гренадерской роты (меньшой) дразнили меня Костюшкой, – разумеется, не понимая значения этого прозвания. Не каждое дитя переносит равнодушно оскорбления – и я с первого раза дал сильный отпор целой толпе. Кадеты вознамерились проучить меня. В первую субботу, когда нас повели в корпусную баню, они воспользовались кратким отсутствием дежурного офицера и, по данному знаку одним главным шалуном, бросились на меня нагого, повалили и понесли на чердак, ухватив за руки и за ноги, крича: "крестить Костюшку в русскую веру!" Видя, что всякое сопротивление с моей стороны бесполезно, я перестал сопротивляться, и замолчал. Баня была невысокая, и со стороны сада большие кадеты старших рот насыпали снежную гору, в которую они спрыгивали с чердака, распарившись в бане. В корпусе, вообще, соблюдалась на деле русская поговорка: «Русскому здорово – немцу смерть», и кадетам эта экзерциция была запрещена. В эту снежную массу кадеты сбросили меня с чердака! У меня почти захватило дух, и я едва выкарабкался из снега. Хотя я и не парился, но был в испарине от внутреннего движения и от борьбы, и едва добрел до предбанника, дрожа от стужи. Кадеты весьма умно советовали мне идти на полок и выпариться, но я, опасаясь новых проказ, отказался и, схватив шайку, грозил разгромить голову первому, который приблизится ко мне. Меня оставили в покое.