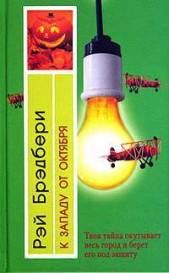Проза и публицистика

Проза и публицистика читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Отчего же вас дворник не пустит?
– Да вы видите, какие на мне ризы!
– Мне кажется, что с незнакомым человеком, да еще ночью, приятельница ваша скорее вам откажет в приюте.
– Да нет же! не откажет; уж я ручаюсь, что не откажет. Вы, может, думаете, что произойдет какое-нибудь неприятное для вас возмущение бабьей стихии? Никакого не произойдет. Душенька!.. благороднейший батенька! Ну, умоляю вас: проведите вы сию утлую ладью в желанную пристань!
Что мне осталось делать? Редко когда я встречал в одной и той же речи такое оригинальное сочетание страстной мольбы с неподдельным комизмом, и, уж не могу сказать теперь хорошенько, эта ли именно оригинальность, или же все больше возраставшее в моей душе чувство приязни к Толстопяткину заставили меня уступить его настойчивой просьбе.
– Так вот что мы сделаем,– сказал я, окончательно решившись следовать за ним: – прикупим где-нибудь по дороге хорошей закуски. Что больше любит ваша приятельница?
Надо было самому видеть тот детский восторг, в какой пришел от этих слов наивный Иван Петрович, чтобы никогда уже не раскаиваться впоследствии в моем решении.
– Да на каком же морском дне, жемчужина вы этакая, пропадали вы до сей, достопамятной в моей жизни, эпохи? – воскликнул он, порывисто растопырив руки и как-то забавно подпрыгнув, не то от этого восторга, не то от мороза.– Барышня Аннушка-то что любит? Ей, душенька, все в корм; уже одна ветчинка или икорка может привести ее в некое сладостное умопомрачение. Форменно!
Мы наконец двинулись в путь. Но по мере того, как попадавшиеся нам на глаза овощные лавки и колбасные оказывались все уже закрытыми, выразительное лицо Толстопяткина начинало все больше и больше вытягиваться в прежнюю плаксивую гримасу, до того забавную, что в душе я просто помирал со смеху. Кончилось тем, что нам пришлось взять извозчика и ехать в Милютины ряды. Когда я вышел из лавки Вьюшина с корзинкой в руке и объявил поджидавшему меня в санях Ивану Петровичу, что в нашем распоряжении имеются, кроме сюрпризной бутылки портвейну, еще ветчина, колбаса, икра и коробка сардинок,– мой художник едва не выскочил из саней; право, можно было опасаться, что от умиления он примется обнимать тут же и меня, и извозчика.
– Потемкин великолепнейший!.. Да ведь этак нас с вами сами ангелы, на собственных крыльях, внесут в резиденцию барышни Аннушки!.. Великодушнейший! ведь после этого я могу и две недели попирать своими недостойными ногами ее божественные чертоги!..– восклицал, захлебываясь, Толстопяткин чуть не на весь Невский.
Но морозный ветер, дувший теперь нам прямо в лицо, заставил вскоре впечатлительного художника успокоиться поневоле: он до того прозяб, что у него, как говорится, зуб на зуб не попадал.
– Скажите, Иван Петрович,– спросил я дорогой, больше для его ободрения:– почему это вы зовете вашу приятельницу "барышней Аннушкой"?
– Да у меня уж такой обычай – крестить все и всех на свой лад,– отозвался он с заметной дрожью в голосе.– По происхождению она, видите, дочь чиновника – значит, по-моему, барышня; ну, а по всем прочим статьям сия особа ничем не отличается от любой деревенской бабищи и выходит просто – Аннушка. Так вот мне и подумалось соединить в ее прозвище приятное с полезным. Кроме того...
Толстопяткин, очевидно, хотел еще что-то добавить к этой остроумной характеристике, но в ту минуту мы уже подъехали к воротам указанного им дома. Калитка благополучно впустила нас, оказавшись не запертой и без дворника. Мы стали взбираться по черной лестнице в самый верх. Остановись здесь и нащупывая рукою дверь и звонок, Иван Петрович таинственно предупредил меня:
– Если я по-сочинительски врать буду, не препятствуйте мне, а только громче поддакивайте, что все, мол, святая истина: для легчайшего проникновения в оную резиденцию, это уж так но церемониалу полагается...
И Толстопяткин сдержанно позвонил.
– Дрыхнет, бестия! – сказал он, принужденно смеясь, когда, по истечении трех-четырех минут, в квартире не последовало никакого движения, и позвонил снова, но уже гораздо сильнее.
– Кто там? – послышался наконец резко визгливый голос за дверью.
Иван Петрович быстро выхватил у меня из рук корзинку, боязливо шепнул: "Да подайте же свою реплику" – я позвонил в третий раз.
– Да кто там? – еще визгливее настаивал все тот же резкий голос.
– Отворите, пожалуйста,– попросил я довольно громко.
В ту же минуту звякнул тяжелый крюк у двери, и она слегка приотворилась. Не теряя ни одного мгновения, художник левой рукой притянул ее к себе, а правой – просунул вперед корзинку, так что отступление неприятелю было совершенно отрезано.
– Матушка, барышня Аннушка! Это я, Иван Толстопяткин,– проговорил он уморительно-вкрадчиво и с лихорадочной торопливостью продолжал:– во-первых, совершенно трезвый; во-вторых, привел с собой давнишнего приятеля, богача из Сибири, сейчас только прибывшего по Никольской железной дороге, с опоздавшим курьерским поездом: в-третьих, мы явились не с пустыми руками, а с знатнейшим угощением и таковою же выпивкой,– вот тут, в дверях, и корзинка, хоть рукой пощупайте...
"Как это он не задохнется от такого быстрого монолога?" – невольно подумалось мне.
– Врешь, поди, пес?– недоверчиво взвизгнул голос хозяйки:– побожись!
– Совершенно верно, что...– поспешил было вставить я новую "реплику" в защиту товарища.
– А ну-ка-те, псы, побожитесь оба! – круто оборвали меня.
Делать нечего, пришлось побожиться. Наконец, после целого ряда визгливых причитаний относительно "ночной поры" мы были впущены в "резиденцию", а дверь опять поставлена на крюк. Сама "барышня Аннушка" тотчас же куда-то исчезла.
– Пошла туалет созидать,– пояснил мне веселым шепотом Толстопяткин:– сейчас светильник явится.
– Иван Петрович! – послышался из непроницаемого мрака голос хозяйки:– проведи их в зальце, покудова я оболокусь; свечка и спички в печурке.
– В силу, душенька, входите при дворе, в силу! – любовно потрепал меня по плечу художник и суетливо принялся шарить где-то руками.
Через минуту чиркнула спичка, зажглась сальная свеча, и я мог осмотреться. Оказалось, что мы обретаемся в тесной и грязной кухне, закоптелые стены которой изобиловали целыми гнездами рыжих тараканов; кое-где на полках из распиленных, но не выструганных досок, приспособленных, очевидно, на скорую руку, торчали жалкие принадлежности не столько убогого, сколько неряшливого хозяйства; от давно немытого ушата с помоями несло какою-то вонючею гнилью.
– Шествуемте, душенька, во здравие! – пригласил меня Толстопяткин:– церемонимейстера нам не полагается, ибо мы проникли сюда.
Он взял корзинку и свечу, а я захватил из кармана шубы бутылку с водкой, и мы прошли по узкому, отгороженному крашеными деревянными перегородками, коридору в "зальце". Это было, впрочем, слишком роскошное название для той каморки, которая удостоилась носить его. Здесь все представлялось идеально-неряшливым: и забрызганные чем-то обои стен, висевшие в иных местах клочьями, с явным присутствием клопов под ними, и совершенно выцветший диван, из-под проерзанной материи которого виднелась мочала, проступали железные концы лопнувших пружин, и круглый преддиванный стол, ничем не покрытый, но зато сплошь облепленный приставшими к нему остатками от предыдущих трапез, и весь исцарапанный комод, где из неплотно закрытых ящиков торчали какие-то пестрые тряпки. Если ко всей этой обстановке прибавить еще немытый, по крайней мере, недели три пол, то остальные подробности "зальца" легко уже дорисуются воображением.
Иван Петрович быстро развязал корзинку и с некоторою торжественностью разложил вынутые оттуда припасы на преддиванном столе, с бутылкой портвейна во главе, к чему я присоединил и водку. Каждая закуска отделялась от грязного стола той самой бумагой, в которой была завернута, так что получился довольно опрятный вид. Художник с отеческой любовью присматривался то к той, то к другой снеди. Я только теперь заметил, что на единственной пуговице его капота болтается какой-то объемистый сверток, и спросил: