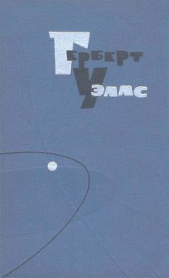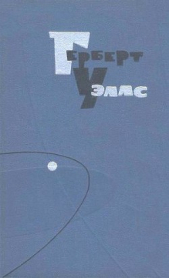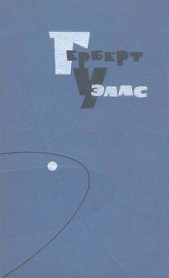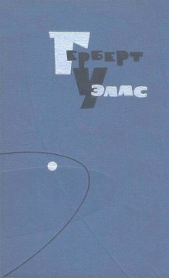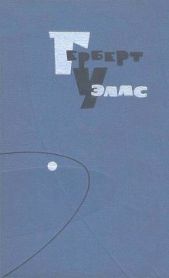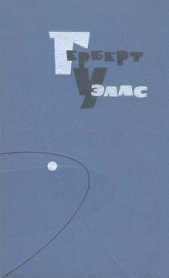Собрание сочинений в 15 томах. Том 11
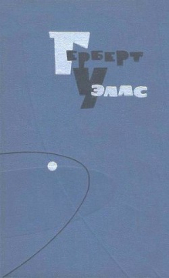
Собрание сочинений в 15 томах. Том 11 читать книгу онлайн
Герберт Уэллс. Собрание сочинений в 15 томах Том 10
Жена сэра Айзека Хармана (переводчик: Виктор Хинкис)
Билби (переводчики: Р. Померанцева, Эдвадра Кабалевская)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Твоих ответов она дожидаться не станет. Ничего трудного, Марта. Разве я по своей воле поставлю тебя в трудное положение? Сама посуди. Ты ей только поддакивай тихонечко, а уж об остальном позаботится она сама.
— Мам, — сказала Пру, все еще робея перед Матильдой Гуд и не смея обратиться к ней прямо. — Мам, а право голоса — это что?
— Право выбирать в парламент, родненькая, — ответила Матильда Гуд.
— Когда мы его получим? — поинтересовалась мать.
— Вы его вообще не получите, — заявила Матильда Гуд.
— Ну, а если бы получили, что нам, к примеру, с ним делать?
— А ничего, — с великолепным презрением бросила Матильда Гуд. — При всем том это — большое дело, Марта, нельзя того забывать. А мисс Бампус, уж она трудится денно и нощно; бывает, ей полисмены все бока намнут. Марта, а раз даже в тюрьме провела целую ночь — и все, чтоб добыть право голоса для таких, как мы с тобой.
— Что же, значит — добрая душа, — заключила мать.
— На первом этаже у меня джентльмен. Здесь что хуже всего, так это книги: пыль с них вытирать. Книг — до ужаса. И не сказать, чтоб он их очень уж читал… Скоро, небось, заиграет на своей пианоле, послушаешь. Здесь внизу почти что не хуже слышно, чем у него. Учился он, мистер Плейс, стало быть, в Оксфорде, а работает в издательстве, называется «Барроуз и Грейвс»; очень, говорят, высокого класса фирма — ни рекламой и ничем таким вульгарным не занимается. Над книжными полками у него кругом фотографий понавешано, все греческие да римские статуи, развалины, щиты с университетскими гербами. Из статуй кой-какие голые, но хоть и голые, а все как есть благородные и приличные. Вполне приличные. Сразу видно: джентльмен, университет кончил. Из Швейцарии фотографий сколько! Он там на горы лазит, в Швейцарии, и разговаривать умеет по-ихнему. Курильщик завзятый: из вечера в вечер сидит, все читает и пишет, и все с трубкой. Какие-то пометки делает карандашом. Рукописи читает, гранки… И на каждый день недели у него своя трубка, а курительный прибор сплошь весь из камня такой красоты, что одно загляденье. Называется «серпентин», зеленый и вроде бы как с кровяным отливом: табакерка, бокальчик для перьев, чтобы прочищать трубки, гнездышки для трубок на все дни недели — и все-то сплошь из камня. Как есть памятник. И когда будешь пыль с него стирать, помни, если этот самый серпентин уронить, он бьется, как глиняный горшок. Сколько служанок у меня перебывало, каждая хоть кусочек, да отобьет от этого табачного надгробия. И заметь себе… — Матильда Гуд подалась вперед и протянула руку, словно для того, чтобы ухватить ею внимание матери: он против женского избирательного права. Видела?
— Тут ходи да оглядывайся, — вздохнула мать.
— Очень даже. Водятся и за мистером Плейсом кой-какие причуды, не без этого, но если приноровиться, то с ним не будет особых хлопот. Одна странность у него такая; делает вид, будто принимает ванну по утрам. Каждое утро ставишь ему в комнату жестяную бадеечку, кувшин холодной воды, кладешь мочалку, и каждое утро он притворяется: плещется — страсть одна, отдувается, повизгивает, словно толстяк на клиросе, и это называется «ванна», хотя и ванна-то вся больше похожа на поддонник для канареечной клетки. Подашь ему ледяной воды, а он, знай свое: мне, говорит, нужно принимать ванну как можно холодней. Да… — Матильда Гуд, словно оползень, перевалилась через ручку стула, голова ее закивала взад-вперед, хриповатый шепоток таинственно понизился: — А сам и не думает.
— Что не думает: в ванну садиться?
— Вот именно, — кивнула Матильда Гуд. — Когда он на самом деле залезет, сразу видно по мокрым следам на полу. Хоть бы через день принимал — и того нет. Смолоду-то в Оксфорде он, может, и принимал холодные ванны. Кто его знает. Только и бадейку каждый день ему выставляешь, и кувшин тащишь наверх каждый день, и наливаешь, и обратно выливаешь, и упаси боже спросить, не надо ли подлить тепленькой. Джентльменам из Оксфорда таких вопросов не задают. Ни-ни. А все равно: раз зимой целую неделю проходил немытый и потом, гляжу, подливает в эту свою полоскательницу горячую воду для бритья и умывания. Но чтоб спросить кувшин потеплее? Чтоб подогреть воду? Ни за какие миллионы! Интересно, правда?.. Да, вот такая уж у него блажь. И мне порой сдается, — продолжала Матильда Гуд еще доверительнее, решив, как видно, выложить все до конца, — что он и в горы-то эти швейцарские поднимается тем самым манером, каким принимает ванну…
Она откатила изрядную порцию своей персоны назад, слегка нарушив симметрию позы.
— Голосом, было бы тебе известно, он наполовину смахивает на священника, наполовину — на школьного учителя: строгий такой голос, важный, а когда ему что-нибудь начнешь говорить, обыкновенно всхрапывает так с расстановочкой: «а-ар… а-ар», — будто лошадь ржет. Вроде как ты для него не очень-то много значишь, хоть он тебя не винит за это; и вообще, мол, некогда ему вникать во все твои разговоры. А ты на это даже не смотри. Воспитание такое, и все. И еще у него привычка: начнет цедить длинные ученые слова. И придумывать обидные прозвища. Утром постучишься в дверь, а он тебе: «А-а, моя достойная Абигейл» или «Взойди, моя розоперстая Аврора», — ему это нипочем. Откуда ж у девушки, которая в услужении, возьмутся чистые розовые ручки, когда тут каминов одних вон сколько приходится растапливать? А не то пристанет с вопросами: «Ну-с, как поживает Добрая Матильда? Как себя чувствует сегодня Славная Матильда Гуд?». Словно бы потешается твоим именем. Конечно, у него и в мыслях нет согрубить, по его понятию, все это очень мило и остроумно, и ты должна понимать, что над тобой ласково подтрунивают, а могли бы уязвить так, что только держись. И поскольку доход от него порядочный, а беспокойства почти никакого, то и обижаться на него. Марта, лет расчета. А все же нет-нет да и подумаешь: какой бы у тебя, голубчика, был вид, если б и я не смолчала, а по-честному, как ровня с ровней: ты меня поддел, а я — тебя! Кому бы из нас двоих пришлось солоней? Уж я бы ему знала, что сказать, я бы ему выложила! Но, — вздохнула Матильда Гуд, расплываясь в широчайшей вкрадчивой улыбке и поводя одним глазом в мою сторону, — это только мечта. И не такого сорта мечта, чтобы можно было ею тешиться в этом доме. Правду сказать, в мыслях-то я себе представляла, как это получится. Говорит он мне, к примеру… Ну да ладно, чего там: он мне, да я ему… Ох-хо… Деньги хорошие, платит аккуратно, чтобы без места остался, так это едва ли, другое место, получше, тоже ему вряд ли получить, а уж нам в юдоли сей остается так или иначе сносить его причуды. И, опять же пианола, — добавила Матильда Гуд извиняющимся тоном, как будто признаваясь в слабости, — послушаешь, и на душе веселей. Это за ним надо признать. А так его почти и не слыхать. Вот только когда снимает ботинки.
Матильда Гуд перевела дыхание и продолжала:
— Ну, а над гостиной, на третьем этаже, в той половине, что окнами на улицу, у меня сейчас живет преподобный Моггеридж со своей достопочтенной супругой. Вот уж пять месяцев, как въехали, и похоже, что приживутся.
— Неужто священник? — почтительно спросила мать.
— Священник, — подтвердила Матильда. — Хоть и бедный, а все-таки. Что-что, Марта, а уж это к нашей чести. Но только, ох, и горемычные же они старички! Уж такие горемычные! Прослужил всю жизнь где-то в глуши — помощником викария, что ли, — и лишился места. Поднялась же у кого-то рука их выставить! Или, может, случилось что. Кто его ведает. Он старичок чудной… Почти каждую субботу плетется куда-нибудь служить за другого воскресную службу. И так он вечно простуженный, а уж вернется-то, бывает, совсем никуда: все сопит да сопит… До чего же безжалостно обращаются с этими стариками священниками! Со станции везут на открытой таратайке — подумать только, в самую скверную погоду! А в доме местного священника часто ни капельки горячительного, и согреться нечем. Христиане, называется! Да уж на том, видно, свет стоит… Так они оба и копошатся день-деньской у себя наверху; еду (а какая у них еда!) как-то умудряются готовить на камине в спальной комнате. Она даже иной раз и бельишко простирнет сама. Так и ползают, горемыки. Состарились — их и забыли, бросили. Но забот особых они не доставляют, живут себе — и пусть живут. Ну и, опять же говорю, как-никак, а священник. А в той комнате, что окнами во двор, — немка, учительница. Учит она… Словом, чему угодно, только соглашайся уроки брать. Она въехала так с месяц назад, и я еще хорошенько не знаю, нравится она мне или нет. Но, в общем-то, кажется, женщина порядочная, все больше сама с собой, да и потом, когда простаивает пустая комната, не очень-то станешь разбираться… Вот все мое население, милая. С завтрашнего дня и начнем. Ты потом поднимись наверх и устраивайся. Для вас там отведены две комнаты: маленькая — Мортимеру, а та, что побольше, — вам с Пру. На стене за занавесками вешалки для одежды. Моя комната рядом с твоей. Я тебе дам свой будильничек, научу, как с ним обращаться, и завтра ровно в семь ты, я, Пру — шагом марш вниз. Милорд, как мужчина, лицо привилегированное, наверное, понежится еще полчасика. Видишь. Марта, какая я суфражистка, не хуже мисс Бампус! Первое дело — здесь затопить, причем если не выгребешь хорошенько всю золу, то не нагреется бак. Теперь дальше: растопить камины, вычистить обувь, убрать ту половину, что окнами на улицу, подать завтрак. Мистеру Плейсу — ровно в восемь, и смотри, чтоб минута в минуту; мисс Бампус — в восемь тридцать, но хорошо бы успеть сначала принять со стола у мистера Плейса, а то ложек маловато. У меня всего пять ровным счетом, а до того как съехал мой бывший с третьего этажа, из задней комнаты, было семь. Хороша птица была, нечего сказать. Старички готовят завтрак сами, когда им вздумается, а для фрау Бухгольц поставишь на поднос хлеб с маслом и чай, а подашь, как управимся на гостином этаже. Вот, Марта, такой план действий.