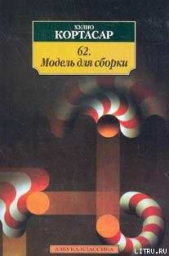Игра в классики

Игра в классики читать книгу онлайн
В некотором роде эта книга – несколько книг…
Так начинается роман, который сам Хулио Кортасар считал лучшим в своем творчестве.
Игра в классики – это легкомысленная детская забава. Но Кортасар сыграл в нее, будучи взрослым человеком. И после того как его роман увидел свет, уже никто не отважится сказать, что скакать на одной ножке по нарисованным квадратам – занятие, не способное изменить взгляд на мир.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Надо с этим бороться.
Надо снова включиться в настоящее.
А поскольку, говорят, я Мондриан, ergo…
Однако Мондриан рисовал свое настоящее сорок лет назад.
(На одной фотографии Мондриан – точь-в-точь дирижер обычного оркестра (Хулио Де Каро, ессо!), в очках, жестком воротничке и с прилизанными волосами, весь – отвратительная дешевая претензия, танцует с низкопробной девицей. Как и какое настоящее ощущал этот танцующий Мондриан? Его холсты – и эта фотография… Непроходимая пропасть.)
Ты просто старый, Орасио. Да, Орасио, ты не Квинт Гораций Флакк, ты жалкий слабак. Ты старый и жалкий Оливейра.
«Il verse son vitriol entre les cuisses des faubourgs» [ 79], – посмеивается Кревель.
А что поделаешь? Посреди этого великого беспорядка я по-прежнему считаю себя флюгером, а накрутившись вдоволь, пора, в конце концов, указать, где север, а где юг. Не много надо воображения, чтобы назвать кого-то флюгером: значит, видишь, как он крутится, а того не замечаешь, что стрелка его хотела б надуться, будто парус под ветром, и влиться в реку воздушного потока.
Есть реки метафизические. Да, дорогая, конечно, есть. Но ты будешь ухаживать за своим ребенком, иногда всплакнешь, а тут уже все по-новому и новое солнце взошло, желтое солнце, которое светит, да не греет. J’habite à Saint-Germain-des-Prés, et chaque soir j’ai rendez-vous avec Verlaine. Ce gros pierrot n’a pas changé, et pour courir le quilledou… [ 80] Опусти двадцать франков в автомат, и из него Лео Ферре пропоет тебе о своей любви, а не он, так Жильбер Беко или Ги Беар. А у меня на родине: «Хочешь, чтоб жизнь тебе в розовом свете предстала, в щель автомата скорее брось двадцать сентаво…» А может, ты включила радио (в понедельник кончается срок проката, надо будет напомнить) и слушаешь камерную музыку, например Моцарта, или поставила пластинку, тихо-тихо, чтобы не разбудить Рокамадура. Мне кажется, ты не вполне понимаешь, что Рокамадур тяжело болен, очень тяжело, он страшно слаб, и в больнице ему было бы лучше. Но я больше не могу говорить тебе это, одним словом, все кончено, а я слоняюсь тут, кружу, кружусь, ищу, где – север, где – юг, если только я это ищу. Если только это ищу. И если не это, то что же тогда, в самом деле? О, любовь моя, я тоскую по тебе, тобой болит моя кожа, тобой саднит мне горло, я вздыхаю – и как будто пустота заполняет мне грудь, потому что там уже нет тебя.
«Toi, – говорит Кревель, – toujours prêt à grimper les cinq étages des pythonisses faubouriennes, qui ouvrent grandes les portes du futur… [ 81]
А почему не может быть так, почему мне не искать Магу, сколько раз, стоило мне выйти из дому и по улице Сен добраться до арки, выходящей на набережную Конт, как в плывущем над рекою пепельно-оливковом воздухе становились различимы контуры и ее тоненькая фигурка обрисовывалась на мосту Дез-ар, и мы шли бродить-ловить тени, есть жареный картофель в предместье Сен-Дени и целоваться у баркасов, застывших на канале Сен-Мартен. (С ней я начинал чувствовать все совсем иначе, я начинал ощущать сказочные знамения наступающего вечера, и совсем по-новому рисовалось все вокруг, а на решетках Кур-де-Роан бродяги поднимались в устрашающее и призрачное царство свидетелей и судей…). Почему мне не любить Магу, почему бы не обладать ее телом под десятками одинаково незамутненных небес ценою в шестьсот франков каждое, на постелях с вытертыми и засаленными покрывалами, если в этой головокружительной погоне за призрачным счастьем, похожей на детскую игру в классики, в этой скачке, с запеленутыми в мешок ногами, я видел себя, я значился среди участников, так почему же не продолжать до тех пор, пока не вырвусь из тисков времени, из его обезьяньих клеток с ярлыками, из его витрин «Omega Electron Girard Perregaud Vacheron & Constantin» [ 82], отмеряющих часы и минуты священнейших, кастрирующих нас обязанностей, пока не вырвусь туда, где освобождаешься ото всех пут, и наслаждение есть зеркало близости и понимания, зеркало жаворонков, вольных птах, но все-таки зеркало, некое таинство двух существ, пляска вокруг сокровищницы, пляска, переходящая в сон и мечту, когда губы еще не отпустили друг друга и сами мы, уже обмякшие, еще не разомкнулись, не расплели перевившихся, точно лианы, рук и ног и все еще ласково проводим рукою по бедру, по шее…
«Tu t’accroches à des histoires, – говорит Кревель. – Tu étreins des mots…» [ 83]
«Нет, старик, это куда лучше выходит по ту сторону океана, в тех краях, которых ты не знаешь. С некоторых пор я бросил шашни со словами. Я ими пользуюсь, как вы и как все, с той разницей, что, прежде чем одеться в какое-нибудь словечко, я его хорошенько вычищаю щеткой».
Кревель не очень мне верит, и я его понимаю. Между мной и Магой пролегли целые заросли слов, и едва нас с ней разделили несколько часов и несколько улиц, как моя беда стала всего лишь называться бедой, а моя любовь лишь называться моей любовью… И с каждой минутой я чувствую все меньше, а помню все больше, но что такое это воспоминание, как не язык чувств, как не словарь лиц, и дней, и ароматов, которые возвращаются к нам глаголами и прилагательными, частями речи, и потихоньку, по мере приближения к чистому настоящему, постепенно становятся вещью в себе, и со временем они, эти слова, взамен былых чувств навевают на нас грусть или дают нам урок, пока само наше существо не становится заменой былого, а лицо, обратив назад широко раскрытые глаза, истинное наше лицо, постепенно бледнеет и стирается, как стираются лица на старых фотографиях, и мы – все до одного – вдруг оборачиваемся Янусом. Все это я говорю Кревелю, но на самом деле я разговаривал с Магой, теперь, когда мы далеко друг от друга. Я говорю ей это не теми словами, которые годились лишь для того, чтобы не понимать друг друга; теперь, когда уже поздно, я начинаю подбирать другие, ее слова, слова, обернутые в то, что ей понятно и что не имеет названия, – в ауру и в упругость, от которых между двумя телами словно проскакивает искра и золотою пыльцой наполняется комната или стих. А разве не так жили мы все время и все время ранили друг друга, любя? Нет, мы не так жили, она бы хотела жить так, но вот в который раз я установил ложный порядок, который только маскирует хаос, сделал вид, будто погрузился в глубины жизни, а на самом деле лишь едва касаюсь носком ноги поверхности ее пучин. Да, есть метафизические реки, и она плавает в них легко, как ласточка в воздухе, и кружит, словно завороженная, над колокольней, камнем падает вниз и снова стрелой взмывает вверх. Я описываю, определяю эти реки, я желаю их, а она в них плавает. Я их ищу, я их нахожу, смотрю на них с моста, а она в них плавает. И сама того не знает, точь-в-точь как ласточка. А ей и не надо этого знать, как надо мне, она может жить и в хаосе, и ее не сдерживает никакое сознание порядка. Этот беспорядок и есть ее таинственный порядок, та самая богема тела и души, которая настежь открывает перед ней все истинные двери. Ее жизнь представляется беспорядком только мне, закованному в предрассудки, которые я презираю и почитаю в одно и то же время. Я бесповоротно обречен на то, чтобы меня прощала Мага, которая вершит надо мной суд, сама того не зная. О, впусти же меня в твой мир, дай мне хоть один день видеть все твоими глазами.
Бесполезно. Обречен на то, чтобы меня прощали. Возвращайся-ка домой и читай Спинозу. Мага не знает, кто такой Спиноза. Мага читает длиннющий роман Переса Гальдоса, русские и немецкие романы, которые тут же забывает. Ей и в голову не придет, что это она обрекает меня на Спинозу. Неслыханный судия, судия, ибо станешь творить суд своими руками, судия, потому что достаточно тебе взглянуть на меня – и я пред тобой, голый, судия, потому что ты такая нескладеха, такая незадачливая и непутевая, такая дурочка – дальше некуда. В силу всего этого, что я осознаю всей горечью моего знания, всем моим прогнившим и выхолощенным нутром просвещенного, вышколенного университетом человека, – в силу всего этого – судия. Так кинься же вниз, ласточка, с острым, как ножницы, хвостом, которым ты стрижешь небо над Сен-Жермен-де-Пре, и вырви эти глаза, которые смотрят и не видят, ибо приговор мне вынесен и обжалованию не подлежит, и уже грядет голубой эшафот, на который меня вознесут руки женщины, баюкающей ребенка, грядет кара, грядет обманный порядок, в котором я в одиночку буду познавать науку самодовольства, науку самопознания, науку сознания. И, постигнув всю эту массу науки и знания, я буду пронзительно тосковать по чему-то, например, по дождю, который пролился бы здесь, в этом мирке, по дождю, который наконец-то пролился бы, чтобы запахло землей и живым, да, чтобы наконец-то здесь запахло живым.