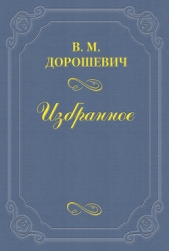Предание о старом поместье

Предание о старом поместье читать книгу онлайн
Предание о старом поместье — одна из самых лиричных повестей Сельмы Лагерлeф. Насыщенное пространство притчи, смешение миражей и действительности, капризы Хроноса превращают это произведение в увлекательное чтение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У него было такое ощущение, будто в мозгу его царит глубокая тьма, застилая от него прошлое. Когда он что-нибудь пытался вспомнить, ему казалось, что он ищет что-то в темной комнате. А когда он начинал играть, какая-то часть тьмы отступала. Так, незаметно для него самого, тьма рассеялась настолько, что он смог вспомнить детские и школьные годы.
И тогда он решил всецело довериться скрипке, авось, она сумеет полностью рассеять тьму, царящую у него в голове. Так и случилось. С каждой новой мелодией тьма чуть-чуть отступала. Скрипка вела его по прошлому, от года к году, будила в нем воспоминания о годах учения, о друзьях, о развлечениях. Тьма царила в его мозгу, но когда он пошел на нее приступом, вооружась скрипкой, она стала шаг за шагом отступать. Иногда он оглядывался назад, словно для того, чтобы убедиться, что тьма не смыкается снова позади него. Но нет, позади было светло, как днем.
Скрипка заиграла дуэты для фортепьяно и скрипки. Он исполнил лишь по два-три такта из каждого, и тьма отодвинулась настолько, что он вспомнил невесту, время своей помолвки. Он хотел задержаться на этом периоде, но у него не было времени. Предстояло рассеять еще огромный кусок тьмы.
Он заиграл мелодию псалма. Он слышал ее когда-то, будучи в большой печали. Он вспомнил, что слушал этот псалом, находясь в деревенской церкви. Чем же он был тогда так опечален? Тем, что был бедным коробейником и ходил с товарами по деревням. Это была нелегкая жизнь, и вспоминать об этом было мучительно.
Смычок летал по струнам, и снова отодвинулся кусок тьмы. Он увидел бескрайний глухой лес, засыпанных снегом животных, причудливые очертания сугробов, под которыми они находились. Он вспомнил поездку к невесте, вспомнил, что она разорвала помолвку. Все это разом прояснилось в его сознании.
Каждое новое воспоминание не причиняло ни радости, ни скорби. Главное было то, что он вспоминал. И это доставляло ему бесконечное наслаждение.
Затем смычок остановился словно бы сам собой. Он не хотел вести его дальше. И все-таки было что-то еще, что он должен был вспомнить. Тьма все еще не рассеялась полностью.
Он вынудил смычок играть дальше. Тот проиграл две короткие невыразительные мелодии, примитивнее которых ему слышать не приходилось. И где только мог его смычок выучиться подобным мелодиям?
Тьма не отступала перед этими мелодиями ни на йоту. Они, собственно, ни о чем ему не говорили. Но из них вырастал страх, какого он никогда прежде не испытывал. Безрассудный, жуткий страх, ужас, гнездящийся в самой глубине души.
Этого он не мог вынести и перестал играть. Что скрыто за этими мелодиями? Что?
Тьма не отступала перед ними, но самое ужасное было то, что, как ему казалось, если он не пройдет со своей скрипкой до последней границы этой тьмы, она снова окутает его и сомкнется вокруг него навсегда.
Он играл, полузакрыв глаза, но теперь он приподнял веки и вернулся в мир действительности. И он заметил Ингрид, которая все время стояла тут, слушая его.
И он спросил ее, не надеясь на ответ, но стремясь хотя бы ненадолго отодвинуть новое приближение тьмы:
— Когда я в последний раз играл это?
Ингрид стояла, дрожа всем телом. Она приняла решение. Что бы ни случилось, он должен узнать правду. Что бы ни случилось, она откроет ее ему.
Она отчаянно боялась, но была тверда и полна решимости. Теперь ему не удастся больше бежать от нее. Теперь он больше от нее не ускользнет. Но при всей своей решимости она все же не смогла сказать Хеде напрямик, что он играл такие мелодии, когда был не в своем уме, и потому ответила уклончиво:
— Ты обычно играл их нынешней зимой у себя дома, в Мункхюттане.
Всюду сплошные тайны, подумал Хеде. Почему эта девушка говорит ему «ты»? Она не простолюдинка, прическа у нее как у барышни — волосы зачесаны кверху и завиты мелкими буклями. Платье у нее из домотканой материи, но на шее кружевная косынка. Кожа белая, и руки маленькие. Это тонкое лицо с огромными мечтательными глазами едва ли может принадлежать крестьянке. Память Гуннара Хеде ничего не подсказывала ему насчет этой девушки. Так почему же она обращается к нему на «ты»? Откуда она знает, что он играл эту мелодию у себя дома?
— Кто ты? Как тебя зовут? — спросил он.
— Я — Ингрид, та самая, которую ты повстречал в Упсале много лет назад и посоветовал ей не отчаиваться из-за того, что она не умеет ходить по проволоке.
Этот период относился к прошлому, которое уже прояснилось для Хеде. Он сразу же вспомнил девушку.
— О, как ты выросла, Ингрид! — сказал он. — И какая ты стала хорошенькая, нарядная! И какая красивая у тебя брошь!
Он долго вглядывался в эту брошь. Ему казалось, что он узнает ее. До чего она похожа на брошь из эмали и жемчуга, которая принадлежит его матери.
Девушка, не колеблясь, ответила ему:
— Эту брошь я получила в подарок от твоей матери. Ты наверняка видел ее раньше.
Гуннар Хеде отложил скрипку в сторону и подошел к Ингрид. Он спросил запальчиво:
— Что все это значит? Как все это понимать? Почему ты носишь ее брошь? Почему мне ничего неизвестно о твоем знакомстве с моей матерью?
Ингрид до того перепугалась, что лицо ее стало почти серым от страха. Она предвидела, каков будет его следующий вопрос.
— Я ничего не знаю, Ингрид. Я не понимаю, почему я здесь. Я не понимаю, почему ты здесь. Почему я ничего не знаю и не понимаю?
— О нет, не спрашивай меня! — Она отпрянула от него и подняла руки, словно защищаясь.
— Ты не хочешь мне сказать?
— Не спрашивай, не спрашивай!
Он крепко сжал ее запястья, вынуждая открыть ему правду:
— Говори! Я ведь в здравом уме! Почему есть вещи, которых я не помню?
Она заметила в его взгляде что-то мрачное и зловещее. Он уже знал, что она ему скажет. Но она понимала, что это невозможно — сказать человеку, что он был сумасшедшим. Это оказалось гораздо труднее, чем она предполагала. Это было попросту невозможно.
— Говори! — повторил он.
Но она чувствовала по его голосу, что он не хочет этого слышать. Он убьет ее, если она ему это скажет.
Ингрид призвала на помощь всю свою любовь и, глядя Гуннару Хеде прямо в глаза, произнесла:
— Ты был не в своем уме.
— И долго?
— Не знаю точно. Года три или четыре…
— Я был совсем сумасшедший?
— О нет, нет! Ты покупал, продавал, торговал на ярмарках.
— В чем же тогда выражалось мое сумасшествие?
— Ты боялся.
— Кого?
— Животных…
— Коз, наверное?
— Да, главным образом коз.
Все это время он крепко сжимал ее запястье. Но тут он резко отшвырнул ее руку. Он в страшном гневе отвернулся от Ингрид, точно она коварно преподнесла ему злобную клевету.
Но это чувство отступило перед другим, которое ранило его еще глубже. Четко, как на картине, возникла перед его глазами фигура рослого далекарлийца, согнувшегося под тяжестью огромного мешка. Он хочет войти в крестьянскую избу, но навстречу ему выбегает маленькая жалкая собачонка. Он останавливается и беспрестанно кланяется этой собачонке, не решаясь войти, пока какой-то парень, хохоча, не появляется на пороге избы и не прогоняет собачонку.
И при виде этой картины неодолимый страх снова охватил его. Под влиянием этого страха видение исчезло, но вместо него ему послышались голоса. Он слышит хохот, громкие выкрики, насмешки, оскорбления. Пронзительные детские выкрики звучат особенно оскорбительно и пугающе. И снова, и снова режет слух одно слово, которое выкрикивают, повторяют, шепчут:
— Козел! Козел!
И все это относится к нему, Гуннару Хеде. Это была его жизнь. И снова почувствовал он этот невыразимый страх, который он нес тогда в своей душе, омраченной безумием.
— Это был я! Это был я! — повторял он, ломая руки.
И в следующее мгновение он упал на колени перед скамейкой, уронил на нее голову и разразился рыданиями.
— Это был я! — выкрикивал он, плача. — Это был я!
Хватит ли у него мужества жить с этим сознанием? Он был жалким дурачком, осыпаемым насмешками, всеми презираемым.