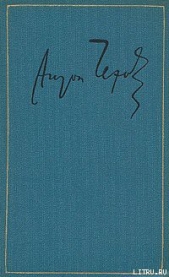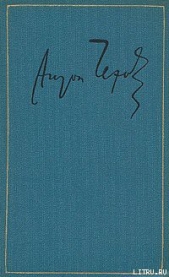Рассказы. Повести. 1898-1903

Рассказы. Повести. 1898-1903 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состояния?» - думал Лыжин, засыпая и слушая сквозь стену его сдержанный, точно сиротский голос.
Следователь спал непокойно. Было жарко, неудобно, и ему казалось во сне, что он не в доме Тауница и не в мягкой чистой постели, а все еще в земской избе, на сене, и слышит, как вполголоса говорят понятые; ему казалось, что Лесницкий близко, в пятнадцати шагах. Ему опять вспомнилось во сне, как земский агент, черноволосый, бледный, в высоких запыленных сапогах, подходил к конторке бухгалтера. «Это наш земский агент…» Потом ему представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:
- Мы идем, мы идем, мы идем.
Старик был похож на колдуна в опере, и оба в самом деле пели, точно в театре:
- Мы идем, мы идем, мы идем… Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу… Мы не знаем покоя, не знаем радостей… Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей… У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем…
Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе? Что за вздор! И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотского в самом деле есть что-то общее в жизни. Не идут ли они и в жизни бок о бок, держась друг за друга? Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель, и, чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем. И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник», как называл его доктор, и старик мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку, - это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин, и это было его давней затаенною мыслью, и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно.
Он лег и стал засыпать; и вдруг опять они идут вместе и поют:
- Мы идем, мы идем, мы идем… Мы берем от жизни то, что в ней есть самого тяжелого и горького, а вам оставляем легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, отчего мы страдаем и гибнем и отчего мы не так здоровы и довольны, как вы.
То, что они пели, и раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как далекий огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни - как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни - это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь… И опять:
- Мы идем, мы идем, мы идем…
Точно кто стучит молотком по вискам.
Утром проснулся он рано, с головною болью, разбуженный шумом; в соседней комнате фон Тауниц говорил громко доктору:
- Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе! Вы не спорьте, а спросите лучше у кучера: он не повезет вас в такую погоду и за миллион.
- Но ведь только три версты, - говорил доктор умоляющим голосом.
- Да хоть полверсты. Коли нельзя, так и нельзя. Выедете только за ворота, там ад кромешный, в одну минуту собьетесь с дороги. Ни за что не отпущу, как вам угодно.
- Надо быть, к вечеру утихнет, - сказал мужик, топивший печь.
И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей, а Лыжин с досадой слушал эти рассуждения, смотрел в окна на сугробы, которые намело на забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую все видимое пространство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, то влево, слушал вой и стуки и думал мрачно:
«Ну, какую тут можно вывести мораль? Метель и больше ничего…»
В полдень завтракали, потом бродили по дому без цели, подходили к окнам.
«А Лесницкий лежит, - думал Лыжин, глядя на вихри снега, которые кружились неистово на сугробах. - Лесницкий лежит, понятые ждут…»
Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обыкновенно двое суток, редко более. В шесть часов обедали, потом играли в карты, пели, танцевали, наконец, ужинали. День прошел, легли спать.
Ночью под утро все успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо, точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем рассвело, доктор и следователь надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли.
У крыльца рядом с кучером стоял знакомый цоцкай, Илья Лошадин, без шапки, со старой кожаной сумкой через плечо, весь в снегу; и лицо было красное, мокрое от пота. Лакей, вышедший, чтобы посадить гостей в сани и укрыть им ноги, посмотрел на него сурово и сказал:
- Что ты тут стоишь, старый черт? Пошел вон отсюда!
- Ваше высокоблагородие, народ беспокоится… - заговорил Лошадин, улыбаясь наивно, во все лицо, и видимо довольный, что наконец увидел тех, кого так долго ждал. - Народ очень беспокоится, ребята плачут… Думали, ваше благородие, что вы опять в город уехали. Явите божескую милость, благодетели наши…
Доктор и следователь ничего не сказали, сели в сани и поехали в Сырню.
ДУШЕЧКА
Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.
Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.
- Опять! - говорил он с отчаянием. - Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди - точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!
Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:
- Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше, - и что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?
На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:
- Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!
И на третий день то же…
Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе…» и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия: