Нильс Люне
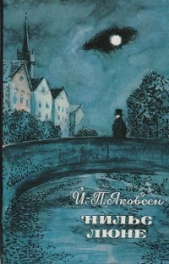
Нильс Люне читать книгу онлайн
«Нильс Люне» (1880) — о воспитании непоколебимости души, завершающееся внутренней победой героя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако эта раздвоенность внешне не сказывалась на Эрике Рефструпе, и у него не являлось мучительной потребности побороть разлад. Нет, он оставался прежним простым и добрым малым, по–прежнему слегка боялся чересчур откровенных чувств и пиратски набрасывался на жизненные сокровища. Но как со дна морского от затонувшего града плывет вверх колокольный звон — так в душе Эрика в тихую минутку звучали тайные струны; и никогда прежде у них с Нильсом не бывало такой близости; и каждый молча сызнова скрепил союз дружбы; а потому, когда настали каникулы и Нильс собрался наконец во Фьордбю навестить свою тетушку Розалию — супругу консула Клауди, Эрик отправился вместе с ним.
Столбовая дорога, миновав живописнейшие окрестности Фьордбю, входит в город меж двух густых терновых плетней, ограждающих большой приморский сад консула Клауди и его огород. Кончается ли дорога тут же, у широкого, как торжище, консульского двора, или это она сворачивает и поднимается мимо дровяного склада и вбегает потом в город уже в виде улицы — в точности никому не известно, ибо иные из проезжающих сворачивают и едут мимо, а иные почитают цель достигнутой, завидев настежь распахнутые просмоленные ворота, на чьих створах всегда сушатся растянутые кожи.
Все здания во дворе были старой стройки, исключая амбар, которого мертво–унылая шиферная крыша являла последнее достижение местных архитекторов. Длинный низкий главный дом словно повалили на колени три тяжелые мансарды, и одним, темным, боком он примыкал к пивоварне и конюшне, а другим, посветлее, к амбару. В темной стороне задняя дверь вела в лавку, которая, вместе с конторой и людской, составляла особый сумрачный мир, где висел крепкий смешанный запах дешевого табаку, отсырелых полов, варева, вяленой рыбы и мокрого портна. Но стоило вам пробраться сквозь сургучный чад конторы и перейти в коридор, отделявший службы от господской половины, как царивший там аромат дамских уборов уже готовил вас к нежноцветочному духу комнат. Это был не запах букета или какого–то одного цветка, но та непостижимая будоражащая нашу память атмосфера, какая есть в каждом доме, и не догадаешься, откуда она взялась. Каждому дому присущ свой запах; он напоминает тысячу вещей сразу — запах старых перчаток, свежераспечатанных карт, раскрытого фортепьяно, он всегда ни на что не похож; его могут заглушить духи, ладан, сигары, но убить его нельзя, он возвращается неизменно, в точности такой, как прежде. Здесь он был цветочный, но запах не роз, не левкоев, ни одного из настоящих цветов, а такой, каким представляем мы себе запах небывалых, сапфирных лилий, которые вьются по фарфору тонких старинных ваз. И до чего же шел он к этим низким, просторным покоям с наследственной мебелью и старомодной нарядностью! Полы были такие белые, какие бывают только бабушкины полы, стены — одноцветные, с легкой, светлой гирляндой по карнизу, на потолках — лепные розы, а двери все резные и с начищенными медными ручками в виде дельфинов. Окна занавешивали снежно–белые воздушные филейные гардины, кокетливо подхваченные пестрыми лентами, точно брачный полог Коридона и Филлиды; а по подоконникам в зеленых горшочках цвели старинные цветы — голубые африканские тюльпаны, мелколистный мирт, огненная вербена и пестрые, как бабочки, герани. Но решительно необычный отпечаток всему придавала мебель. Незыблемые столы с широкими столешницами потемневшего красного дерева, стулья, которых спинки охватывают вас, как стружка, поставцы всевозможных форм, огромные комоды, изукрашенные по мифологическим сюжетам — Дафнами, Арахнами, Нарциссами, — и тут же, на тоненьких точеных ножках, изящные бюро, где на каждом ящичке из дендритового мрамора выложены одинокий домик и деревце рядом, — все это было сработано задолго до Наполеона. Тут и зеркала с белыми и бронзовыми цветами, рисованными по стеклу: тростник и лотос плывут по ясным водам, — а диван тут — не безделка о четырех ножках, где едва поместиться двоим, нет, тяжело и громоздко высится он над полом, словно целая терраса, и с каждой стороны у него по консоли с шкафчиком, над которым, и спою очередь, зиждется еще шкафчик, вознося на высоту, недосягаемую для грешных детей человеческих, какой–нибудь старинный, бесценный кувшин. Не диво, что у консула собралось столько старинных вещей, ибо и отец его и еще дед тешились ими, отдыхая и этих стенах от трудов в конторе и на лесном складе.
Дед, Берендт Берендтсен Клауди, чье имя до сих пор носило предприятие, выстроил дом и двор и всего больше интересовался делами в лавке; отец открыл лесной склад, прикупил пахотной земли, поставил сарай, разбил сад, завел огород; нынешний Клауди увлекся сбытом зерна, построил амбар и сочетал с негоциантством пост английского и ганноверского вице–консула и роль поверенного Ллойда; зерно и Северное море так поглощали его, что ко всем прочим делам он относился спустя рукава и препоручил их заботам разорившегося шурина и несговорчивого старика приказчика, который то и дело ставил консула в тупик, объявляя, что торговля — торговлей, а землица–то важней, и коли надобно пахать, то для леса лошадей пусть берут, где хотят, и весь тут сказ. Но малый знал свое дело, и консул спускал ему воркотню.
Консулу Клауди перевалило за пятьдесят, он был видный мужчина с правильными и крупными, почти тяжелыми чертами, столь же способными сосредоточиваться для выражения строгой холодной энергии, как и расплываться в лакомом самозабвение; он одинаково был в своей тарелке, когда старался переловчить недовольных работников, сторговывался с упрямыми купцами или сидел за последним штофом вместе с седыми греховодниками и слушал скабрезные истории либо сам их рассказывал с той откровенной красочностью, которой славился.
Однако ж в этом он был не весь.
Из–за недостатка образования он терялся, когда речь заходила о вопросах отвлеченных, но и не высмеивал того, чего не понимал, не скрывал своего неведения, никогда не пускался в рассуждения о предметах, ему непонятных, и ничуть не требовал к своим словам уважения за то только, что сам он немолод, опытен в делах и обложен большими налогами. Напротив, он умел с почти трогательным благоговеньем слушать рассуждения дам и юнцов, вставлял иногда, после долгих извинений, смиренный вопрос и благодарил за ответ с той признательностью, с какой только старший благодарит младшего.
В иные же счастливые мгновенья в консуле Клауди вдруг появлялась нежданная нежность, ясные карие глаза подергивались поволокой, на твердых губах проступала томная улыбка, а голос звенел воспоминанием, будто консул томится по миру, совсем не похожему на тот, в котором, по мнению друзей и знакомцев, он как сыр в масле катался.
Жена служила посредницей между ним и тем, иным миром. Она была из тех бледных, кротких девственных натур, каким недостает смелости любить до полного самозабвения; никогда не бросятся они в слепом порыве под колесницу своего божества, на это они не способны. Зато чего не сделают они ради того, кого любят, взвалят на себя самый тягостный труд, готовы на самые трудные жертвы, и нет унижения, какого не согласились бы они вынести. Таковы лучшие из них.
Столь суровых требований вовсе, правда, не предъявлялось к фру Клауди, но брак ее не был безоблачен; во Фьордбю каждый знал, что консул если теперь и угомонился, то всего несколько лет назад не отличался супружеской верностью и произвел на свет не одного внебрачного ребенка. Конечно, жена очень страдала, и нелегко ей было заставить собственное сердце выдержать ту бурю ревности, презрения, гнева, стыда и томящего ужаса, которая обрушилась на нее и чуть не выбила почву из–под ног. Она, однако ж, устояла. Не только не слетело с ее уст ни единого укора, она и мужа не допустила до признаний, явственных просьб о прощении, покаянных обетов. Она знала, что, коли дойдет до слов, они увлекут ее далеко от него. Надо было все пережить в молчании, и молча она старалась обвинить себя в сопричастии мужнину греху, коря себя за недостаточную самоотверженность. Старалась она не зря, ей удалось живо ощутить свою вину и захотелось искупить ее, и скоро крылатая молва оповестила Фьордбю о том, что соблазненные консулом девушки и дети их не только ни в чем не терпят нужды, но, верно, женская рука тайно охраняет их от всякой скверны, укрепляет и направляет.
























