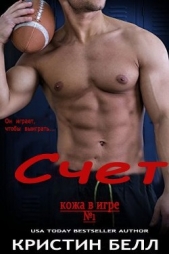Имморалист

Имморалист читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каждый день мы катались в коляске, потом, когда выпал снег, в санях, закутанные по горло в меха. Я возвращался с горящим лицом, очень голодный, потом меня клонило ко сну; однако я не отказывался от работы и каждый день находил час для размышлений о том, что мне надо сказать. Не было уж больше речи об истории; уже давно мои исторические занятия интересовали меня только, как способ психологического исследования. Я вам рассказывал, как я снова увлекся прошлым, когда мне показалось, что я вижу в нем смутные сходства с сегодняшним; я сообразил, что, допрашивая мертвых, я добуду у них тайные указания, как жить… Теперь сам юный Аталарх мог бы выйти из могилы для беседы со мной, — я не стал бы больше слушать прошлого. И как древний ответ мог бы разрешить мой новый вопрос? Что еще может человек? Вот что мне было важно узнать. То, что до сих пор сказал человек, — все ли это, что он мог сказать? Все ли он о себе знает? Остается ли ему только повторяться? И каждый день во мне росло смутное ощущение непочатых богатств, до сих пор скрытых, спрятанных, задушенных культурой, приличием, нравственностью.
И тогда мне казалось, что я родился для каких-то неизвестных открытий; и я необычайно увлекался моими темными изысканиями, для которых — я знал — искатель должен отречься и оттолкнуть от себя культуру, приличие, нравственность.
Я доходил до того, что мне в других людях нравились только самые дикие чувства, и сожалел, когда что-нибудь стесняло их проявление. Еще немного — и я стал бы видеть в честности лишь запрет, условность и страх. Мне хотелось бы любить ее, как великую трудность; наши нравы придали ей всеобщую и банальную форму контракта. В Швейцарии она составляет часть комфорта. Я понимал, что Марселина в ней нуждается, но я не скрывал от нее нового направления моих мыслей. Уже в Невшателе, когда она восхваляла эту честность, которая просачивается там из всех стен и написана на всех лицах, я отвечал ей:
Мне вполне довольно моей собственной честности; мне отвратительны честные люди. Если мне нечего бояться их, то и нечему учиться у них. Впрочем, им нечего сказать… Честный швейцарский народ! Ему ничего не стоит быть здоровым… Народ без преступлений, без истории, без литературы, без искусства… крепкий розовый куст без терний и без цветов…
То, что этот честный народ мне наскучит, я это уже знал наперед, но через два месяца эта скука стала чем-то вроде бешенства, и я только и думал об отъезде.
Была середина января. Марселине было лучше, гораздо лучше, постоянный маленький жар, медленно иссушавший ее, прекратился; более свежий румянец заиграл на ее щеках; она снова стала охотно, хотя и не много, ходить и не была, как прежде, вечно усталой. Мне не стоило очень большого труда убедить ее, что она уже извлекла всю возможную пользу из этого тонического воздуха и ничего не может быть для нее теперь полезнее Италии, где теплая весна довершит ее выздоровление; особенно же мне не стоило большого труда убедить в этом себя, — до того устал я от этих высот.
А между тем теперь, когда в моей праздности ненавистное прошлое крепнет, — именно эти воспоминания преследуют меня больше всего. Быстрая езда в санях; веселое хлестанье сухого ветра; комья летящего снега, аппетит; неверные шаги в тумане, причудливая звонкость голосов, внезапное появление предметов; чтение в запертой теплой гостиной, пейзаж сквозь стекло, застылый пейзаж; трагическое ожидание снега; исчезновение внешнего мира, сладострастно притаившиеся мысли… О, еще бы побегать на коньках с ней, там, совсем вдвоем, на чистом маленьком затерянном озере, окруженном лиственницами; потом вернуться с ней домой, вечером…
Этот спуск в Италию был для меня головокружителен, как падение. Стояла прекрасная погода. По мере того как мы погружались в более теплый и плотный воздух, прямые деревья горных вершин, лиственницы и правильные ели уступали место богатой и мягкой растительности. Мне казалось, что я покидаю абстракцию для жизни, и, хотя стояла зима, мне всюду мерещились ароматы. Ах, как давно мы улыбались лишь одним теням! Меня опьяняло мое воздержание, и я был пьян от жажды, как иные пьяны от вина. Запас, накопленный моей жизнью, был изумителен; на пороге этой ласковой и манящей земли просыпалась вся моя жадность. Меня наполнял громадный запас любви; иногда из глубины плоти он поднимался к моей голове и рождал бесстыдные мысли.
Эта иллюзия весны длилась недолго. Резкая перемена высоты могла обмануть меня на мгновение, но, как только мы покинули защищенные берега озер Белладжио, Комо, где мы задержались несколько дней, — мы увидели зиму и дождь. Холод, который мы переносили в Энгадине, сухой и легкий в горах, здесь стал влажным и унылым, и мы начали страдать от него. Марселина снова начала кашлять. Тогда, чтобы избежать холода, мы спустились еще южнее; мы оставили Милан для Флоренции, Флоренцию для Рима, Рим ради Неаполя, самого мрачного города в зимний дождь, какой я только знаю. Я томился несказанной скукой. Мы вернулись в Рим, надеясь за отсутствием тепла найти там хоть подобие комфорта. На Монте Пинчио мы наняли квартиру, чересчур просторную, но с замечательным видом. Уже во Флоренции, недовольные гостиницами, мы сняли на три месяца прелестную виллу на Виале деи Коли. Другой пожелал бы поселиться там всегда… Мы не остались там и двадцати дней. При каждой новой остановке я, однако, старался устроить все так, как будто бы мы не должны были больше уезжать. Более сильный демон толкал меня… Прибавьте к этому, что мы возили с собой не меньше шести сундуков. Один был наполнен только книгами, и за все наше путешествие я не открыл его ни разу.
Я не позволял, чтобы Марселина беспокоилась о наших тратах или старалась их уменьшить. Я, конечно, знал, что они чрезмерны и что это не может долго продолжаться. Я перестал рассчитывать на деньги из Ла Мориньер; она совсем перестала приносить доход, и Бокаж писал, что все не находит покупателя. Но всякие размышления о будущем меня приводили только еще к большим тратам. Ах, к чему мне столько денег, когда я останусь один!.. думал я и наблюдал с тоской и ожиданием, как идет на убыль еще быстрее, чем мое состояние, хрупкая жизнь Марселины.
Хотя она вполне полагалась на мои заботы, все эти быстрые переезды ее утомляли; но еще больше утомлял ее, — сейчас я могу себе в этом признаться, — страх перед моею мыслью.
— Я отлично вижу, — однажды сказала она мне, — я хорошо понимаю вашу теорию, потому что теперь это стало теорией. Она, может быть, прекрасна, — потом прибавила тихо и грустно: — но она унижает слабых.
— Это то, что нужно, — ответил я сразу же невольно.
Тогда я почувствовал, как от ужаса перед моими жестокими словами это нежное существо сжалось и вздрогнуло… Ах, быть может, вы подумаете, что я не любил Марселину? Я клянусь, что я ее страстно любил. Никогда еще не была она и не казалась мне такой прекрасной. Болезнь делала ее черты более тонкими и как бы экстратичными. Я ее почти не оставлял, окружал непрестанными заботами, защищал, охранял каждое мгновение ее дней и ночей. Как бы чуток ни был ее сон, я старался, чтобы мой был еще более чутким; я сторожил мгновение, когда она засыпала, и просыпался первым. Когда изредка, оставляя ее на час, я уходил один погулять за город или по улице, какая-то любовная забота и страх перед ее тоской заставляли меня быстро возвращаться; иногда я призывал на помощь свою волю, сопротивлялся этой власти, говорил себе: "Так это все, на что ты способен, лжевеликий человек!" и заставлял себя затягивать свое отсутствие; но после этого я возвращался, нагруженный цветами, ранними садовыми или оранжерейными… Да, я утверждаю, я нежно любил ее. Но, как бы это выразить… по мере того, как я все меньше уважал себя, я все больше почитал ее, и кто может счесть, сколько страстей и сколько враждебных мыслей могут одновременно уживаться в человеке?..
Плохая погода уже давно прекратилась; весна надвигалась, и вдруг зацвел миндаль. Это было первое марта. Утром я выхожу на Испанскую площадь. Крестьяне опустошили все деревенские сады, и белые ветви миндального цвета наполняют корзины торговцев. Я прихожу в такой восторг, что покупаю несколько кустов. Трое крестьян относят их ко мне. Я вхожу со всей этой весной. Ветви цепляются за двери, лепестки падают на ковер. Я ставлю цветы всюду, во все вазы; я покрываю этими белыми ветвями всю гостиную, где Марселины в эту минуту нет. Я наперед радуюсь ее радости… Я слышу ее шаги. Вот она. Она открывает дверь. Что с ней?.. Она шатается… Она рыдает…