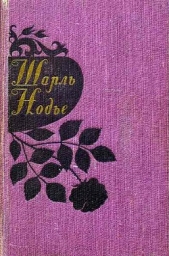Трильби

Трильби читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— О да, да! Какой же овощ…
— Погодите! Там есть два ресторана; «Бардье» и «Баррат» Они открыты всю ночь. Немедленно отправляйтесь в один из них и ешьте до отвала! Кое-кто предпочитает ресторан Баррата, мне больше по вкусу Бардье. Пожалуй лучше всего начните с «Бардье» и закончите «Барратом». Во всяком случае, не теряйте ни минуты, отправляйтесь!
Таким образом он спас Маленького Билли от преждевременной кончины.
Был среди них и один грек, шестнадцатилетний юноша огромного роста. Он выглядел гораздо старше своего возраста, курил табак покрепче, чем Таффи, и восхитительно раскрашивал трубки. В мастерской на площади св. Анатоля он был всеобщим любимцем благодаря своему добродушию, веселости и остроумию. В этом избранном кругу он слыл богачом и щедро сорил деньгами. Звали его Полюфлуабуаспелеополодос Петрилопетроликоконоз (так окрестил его Лэрд), ибо настоящее его имя считалось в Латинском квартале слишком длинным и слишком благозвучным, а кроме того, напоминало название одного из островов греческого архипелага, где когда-то воспевала любовь пламенная Сафо.
Чему он учился в Латинском квартале? Этого никто не знал. Французскому языку? Да ведь он говорил на нем, как прирожденный француз! Но когда его парижские друзья перекочевали в Лондон, где, как не в его родовитейшем английском замке, чувствовали они себя наиболее дома — и где их лучше кормили?!
Замок этот принадлежит теперь ему самому и выглядит еще родовитее, чем прежде, как и подобает жилищу богача и лондонского магната, но его седобородый владелец остался таким же веселым, простым и гостеприимным, каким был некогда в Париже, — только он больше не раскрашивает трубки.
Был там и Карнеги из Балиоля в Шотландии, недавний студент Оксфордского университета. В ту пору он собирался стать дипломатом и приехал в Париж, чтобы научиться бегло разговаривать по-французски. Большую часть времени он проводил среди своих великосветских английских знакомых на правом берегу Сены, а остальное время с Таффи, Лэрдом и Маленьким Билли на левом берегу. Вероятно, именно поэтому ой так и не стал британским послом. Теперь он всего-навсего сельский священник и говорит на самом скверном французском языке, какой мне доводилось слышать, но говорит на нем при каждом удобном случае где только придется.
По-моему, так ему и надо!
Он любил лордов, водил знакомство с ними (по крайней мере делал вид, что это так), частенько поминал их и так хорошо одевался, что затмевал даже Маленького Билли. Лишь Таффи в своей потрепанной, залатанной охотничьей куртке и засаленном картузе да Лэрд в ветхой соломенной шляпе и старом пальто Таффи, доходившем ему до пят, осмеливались прогуливаться под руку с ним — вернее, настаивали на прогулках с ним — во время вечерней музыки по аллеям Люксембургского сада.
Его бакенбарды были еще пышнее и гуще, чем у Таффи, но ему делалось дурно при одном намеке на бокс.
Был там также белокурый Антони, швейцарец, ленивый ученик, «король бродяг», как мы его прозвали, которому все прощалось (как когда-то Франсуа Вийону) за его подкупающее обаяние, и, право, несмотря на свои достойные всяческого порицания выходки и проказы, не было среди обитателей царства Богемы, да и за его пределами, более милого, более очаровательного существа, чем он.

Всегда в долгах, как и Свенгали, ибо он имел не больше представления о ценности денежных знаков, чем колибри, и вечно ссужал всех своих друзей суммами, которые по праву принадлежали его кредиторам, как и Свенгали, остроумный, насмешливый, тонкий, своеобразный художник, он тоже одевался несколько эксцентрично (хотя всегда безупречно опрятно) и привлекал к себе внимание где бы ни появлялся, но воспринимал это как личное оскорбление. К тому же, в отличие от Свенгали, он был воплощением деликатности, благородства и лишен какого бы то ни было самодовольства. Несмотря на свой рассеянный образ жизни — сама честность и прямота, добряк, рыцарь и храбрец; отзывчивый, верный, искренний, самоотверженный друг и, пока кошелек его не опустошался, наилучший, наивеселейший собутыльник в мире! Но таковым он пребывал весьма ненадолго.
Когда деньги иссякали, Антони забивался на какой-нибудь нищенский чердак, затерянный в парижских трущобах, и писал великолепные эпитафии в стихах самому себе по-французски или по-немецки (и даже по-английски, ибо был удивительным полиглотом!), в которых описывал, как его позабыли и покинули родные, друзья и возлюбленные и как он «в последний раз» глядит на крыши и трубы Парижа, прислушиваясь напоследок к «извечной гармонии» и оплакивая свои «горестные заблуждения», и, наконец, ложился умирать с голоду.
А пока он лежал так и ждал избавления, которое все не приходило, он услаждал докучные часы, жуя черствую корочку, «политую горькой слезой», и украшал собственную эпитафию фантастическими рисунками, изысканными, остроумными, прелестными. Эти разрисованные надгробные надписи молодого Антони, многие из которых сохранились и поныне, теперь стоят баснословных сумм, как это известно коллекционерам всего мира!
Он угасал день за днем, и наконец — приблизительно на третий день — приходил чек от какой-нибудь многотерпеливой его сестры или тетки из Лозанны, или же ветреная возлюбленная, а то и неверный друг (который в это время разыскивал его по всему Парижу) обнаруживали его тайник. Великолепную эпитафию несли к папаше Маркасу на улице Гетт и продавали за двадцать, пятьдесят, иногда даже за сто франков, и Антони возвращался обратно в свою Богему, дорогую, родную Богему, с ее бесчисленными радостями, где веселились, пока не иссякнут деньги… а затем все начиналось заново!
Теперь, когда имя его гремит по всему свету, а сам он стал гордостью страны, которую избрал своей родиной, он любит вспоминать обо всем этом и глядит с вершины своей славы на прошлые дни безденежья и беспечного ученичества, на «те счастливые времена, когда мы были так несчастны!..»
Несмотря на свою донкихотскую величественность, он такой знаменитый остряк, что когда острит (а делает он это постоянно), то люди сначала хохочут, а уже после спрашивают, над чем, собственно, он пошутил. Вы сами можете вызвать взрыв смеха собственной непритязательной остротой, если только начнете словами: «Как сказал однажды Антони…»
Автор частенько так и делал.
А если в один прекрасный день вам посчастливится самому придумать нечто остроумное, достойное быть произнесенным во всеуслышание, будьте уверены, что через много дней ваша острота вернется к вам с предисловием: «Как сказал однажды Антони…»
Он шутит так незлобиво, что чувствуешь себя чуть ли не обиженным, если он сострит по поводу кого-то другого, а не тебя! Антони никогда не произнес бесцельной насмешки, жалящей больно, о которой он сам пожалел бы невольно.
Право, несмотря на свой жизненный успех, он не нажил себе ни одного врага.
Разрешите мне присовокупить (дабы никто не усомнился в подлинности его образа), что в настоящее время он высок, дороден и поразительно красив, хотя и лысоват, а вид у него, осанка и манеры столь аристократичны, что вы скорей сочтете его потомком рыцарей-крестоносцев, чем сыном почтенного бюргера из Лозанны.
Был там еще Лорример, прилежный ученик, тоже достигший славы: он столп лондонской королевской академии и, вероятно, если проживет достаточно долго, — ее будущий президент, по праву возведенный в ранг старшего лорда «всех пластических искусств» (за исключением двух-трех, которые тоже имеют некоторое значение).
Да не будет этого еще многие-многие годы! Лорример первый воскликнул бы так!
Высокий, рыжеволосый, даровитый, трудолюбивый, серьезный старательный, молодой энтузиаст своего дела, не по летам образованный, он запоем читал нравоучительные книги и не принимал участия в увеселениях Латинского квартала, но проводил вечера дома, на правом берегу изучая Генделя, Микеланджело и Данте. Временами он бывал в «хорошем обществе» — при сюртуке и белом галстуке, с прямым пробором в волосах.