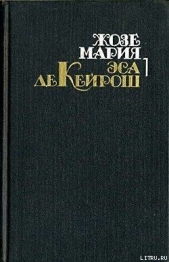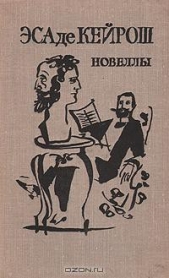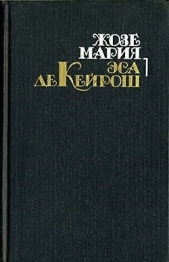Переписка Фрадике Мендеса

Переписка Фрадике Мендеса читать книгу онлайн
Образ Карлоса Фрадике Мендеса был совместным детищем Эсы де Кейроша, Антеро де Кентала и Ж. Батальи Рейса. Молодые литераторы, входившие в так называемый «Лиссабонский сенакль», создали воображаемого «сатанического» поэта, придумали ему биографию и в 1869 году опубликовали в газете «Сентябрьская революция» несколько стихотворений, подписав их именем «К. Фрадике Мендес». Фрадике Мендес этого периода был воплощением духа «Лиссабонского сенакля» со свойственной ему безудержной свободой мысли, анархической революционностью, сатанизмом, богемой…
Лишь значительно позже образ Фрадике Мендеса отливается в свою окончательную форму. 23 мая 1888 года Эса пишет Рамальо Ортигану из Бристоля, где находился на консульской службе: «У меня тут есть для тебя готовая книга. Ты все поймешь, когда узнаешь, что она называется «Письма Фрадике Мендеса». Как ты уже догадался, я намерен сделать с Фрадике (надеюсь, ты не забыл этого старого приятеля?) то, что нынче принято делать со всеми великими людьми: напечатать его частные письма. Если помнишь, в наше время Фрадике был немного комичен. Новый Фрадике – совсем другое дело; это в полном смысле слова выдающаяся личность: мощный интеллект, деятельный темперамент, утонченная и восприимчивая душа… словом, демон!..»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
IV
Госпоже С.
Париж, февраль.
Мой милый друг!
Испанца зовут дон Рамон Коваррубия, живет он в пассаже Сонье, № 12, и так как он арагонец и, значит, непривередлив, то, вероятно, удовольствуется десятью франками за урок. Но если Ваш сын уже знает испанский язык настолько, чтобы понимать «Романсеро» и «Дон-Кихота», если он прочел кое-что в плутовском жанре, разобрал двадцать строк из Кеведо, знает две комедии Лоне де Вега и один-два романа Гальдоса (а в испанской литературе больше ничего и нет), то зачем вы, моя разумная приятельница, еще желаете, чтобы он говорил на испанском языке, и без того ему известном, с подлинным акцентом, вкусом и остроумием мадридца, родившегося на Калье Майор? Стоит ли милому Раулю тратить время, отпущенное на приобретение знаний и понятий (а юноше с именем, состоянием и красивой наружностью общество отпускает на это только семь лет – от одиннадцати до восемнадцати), на что? На праздную роскошь, на излишнее, ненужное оттачивание того, что является простым орудием приобретения знаний и понятий! Ибо языки, мой добрый друг, – не более чем орудие познания, точно такое же, как, например, орудие обработки земли. Тратить энергию и время на то, чтобы научиться говорить на иностранном языке так чисто и правильно, будто это родной ваш язык и будто именно на нем вы впервые попросили хлеба и воды, – это значит поступать, как земледелец, который не довольствовался бы для копания земли обыкновенным куском железа, насаженным на деревянную рукоятку, а тратил бы драгоценное время, необходимое для обработки огорода, на вырезыванье узоров на рукоятке и гравирование эмблем на железе. Что сталось бы, милостивая государыня, с вашими садами в Турени, если бы ваш садовник, забыв о них, всецело занялся украшением своей лопаты?
Человек должен говорить с непогрешимой верностью и чистотой только на своем родном языке; на всех же других пусть говорит плохо, надменно плохо, и пусть неверный и смешной акцент выдает в нем иностранца. Ведь в языке живет национальность, и кто с одинаковым совершенством владеет всеми языками Европы, тот постепенно теряет свой национальный облик. Родной язык утрачивает для него свою прелесть, свою исключительность, перестает воздействовать на его чувства и тем самым перестает отделять его от людей других национальностей. Космополитизм речи неизбежно приводит к космополитизму характера. Полиглот не может быть патриотом. Каждый новый усвоенный им язык вводит в его нравственный организм чуждый образ мыслей, чуждый способ чувствования. Его патриотизм растворяется в привязанности к иноземному. Rue de Rivoli, calle d'Alcalâ, Regent-Street, Wilhelmstrasse3уууууууууу4е54кккккккккккк [153] – не все ли ему равно? Все это – улицы, вымощенные булыжником или покрытые макадамом. Речь, которую он слышит на любой из этих улиц, звучит для пего одинаково естественно, это сродная ему стихия, в которой дух его движется свободно, непосредственно, без колебаний и неловкости. А если через слово – главное орудие общения людей – он может слиться с каждым народом, то все эти страны он ощущает и приемлет как родину.
С другой стороны, постоянное усилие выражаться на чужом языке без ошибок, с неукоснительным соблюдением всех особенностей его строя и акцента (то есть постоянное усилие слиться с чужими людьми в том, что для них особенно характерно), заглушает в нем собственную природную индивидуальность. По прошествии многих лет этот искусник, умеющий говорить на всех языках, кроме родного, теряет всякую духовную самобытность; мысли его неизбежно приобретают безличный, нейтральный характер, ибо только такие мысли могут быть равноценно выражены далекими друг от друга по строю и духу языками. Фактически мысли этого полиглота становятся похожи на тех бедняков, о которых наш народ сложил грустную поговорку: «На них хорошо сидит платье с любого плеча».
И, кроме того, стремление говорить безупречно на иностранном языке даже в глазах самих иностранцев является каким-то неприятным, недостойным кривляньем. Есть что-то унизительное в этом усилии не быть самим Собой, слиться с ним, с иностранцем, и именно в наиболее самобытном, наиболее природном – в слове. Ведь это не что иное, как отречение от национального достоинства. Нет, милая сеньора! Будем: говорить на чужом языке благородно плохо, патриотично плохо! Хотя бы потому, что полиглот самим иностранцам внушает одно лишь недоверие; они чуют в нем существо без собственных корней, без постоянного очага, существо, которое пробавляется около чужих наций, маскируется поочередно под каждую из них и пробует обосноваться то среди одной, то среди другой, так как ни одна не хочет терпеть его у себя. И действительно, дорогой мой друг, если вы просмотрите «Судебную газету», то убедитесь: высшая степень владения всеми языками – орудие самого квалифицированного мошенничества.
Однако я увлекся игрой мысли и вместо адреса посылаю вам трактат! Но, прочитав его, вы, быть может, улыбнетесь подумаете и избавите вашего Рауля от тягостных потуг произносить: «¡Viva la gracia!» и «¡Benditos sean tus ojos!» [154] – точнехонько так, как если бы он жил на углу Пуэрта-дель-Соль, [155] носил плащ с бархатными полами и сосал папироску, как сам Ласарильо. [156] И все это, однако, не мешает вам воспользоваться услугами дона Рамона: он не только почитатель Соррильи, [157] но и весьма недурной гитарист и владеет не только языком Кеведо, [158] но и гитарой Альмавивы. И ваш красавец Рауль приобретет благодаря ему новую возможность выражать себя: посредством гитары. А это чудесный дар! Для юноши – как, впрочем, и для старика – гораздо полезней уметь при помощи медных струн облегчить душу от всего неясного и безымянного, что в ней теснится, чем самым безукоризненным образом спросить в гостинице хлеба и сыра на шведском, голландском, греческом, болгарском и польском языках.
Да разве уж так необходимо даже ради этих насущных нужд души и тела «странствовать годами под суровой ферулой учителей но пустыням и болотам грамматики и произношения», как выражался старик Мильтон? У меня была замечательная тетка, которая говорила только на португальском языке, вернее на миньотском наречии, что не помешало ей объездить всю Европу вполне спокойно и удобно. Дама эта, веселого нрава, но хворавшая желудком, питалась преимущественно яйцами, которые она знала только под их родным португальским названием: ovos. Huevos, oeufs, eggs, Eier были для нее бессмысленными звуками природы, вроде кваканья лягушек или треска дерева. И когда в Лондоне, Берлине, Париже, Москве ей нужны были яйца, эта находчивая дама требовала к себе метрдотеля, вперяла в него свои умные, выразительные глаза, приседала с самым серьезным видом на ковре и, медленно покачивая пышными юбками, на манер растопырившей перья наседки, кричала: «Ко-ко-ко-ко! Ки-ки-ри-ки! Ко-ко-ри-ко!» И нигде – ни в безвестных деревушках, ни в славных центрах мировой цивилизации – моя тетушка не оставалась без яиц, и притом самых свежих!
Целую Ваши ручки, дорогая моя благожелательница.
V
Герре Жункейро,
Париж, май.
Дорогой друг!
Ваше письмо преисполнено поэтических иллюзий. Если вы простодушно полагаете, что достаточно поразить стихами (даже вашими – а они сверкают ярче стрел Аполлона) церковь, священников, литургию, таинства, постные дни и мощи великомучеников, чтобы «очистить идею бога от наносов шаманства» и поднять народ (в понятие «народ» вы, по-видимому, включаете и статских советников) до понимания чистой идеи бога, равнозначной чистому понятию нравственности, основанной на вере, – то это значит, что вы судите о религии, о ее сущности и цели как мечтатель, упорствующий в своих мечтаниях!
Мой добрый друг! Отнимите у религии ритуал, и религия исчезнет, ибо для большинства людей (за исключением нескольких философов, моралистов и мистиков) религия есть не что иное, как совокупность обрядов. При помощи этих обрядов каждый народ надеется войти в общение со своим богом, чтобы получать от него милости. Именно это и только это является целью всех культов, начиная от самого примитивного, культа Индры, до новейшего – культа сердца Марии, внедрение которого в Вашем приходе так возмущает Вас, о неисправимый идеалист!
Если хотите проверить это на истории, покиньте Виану-до-Кастело, возьмите посох и пройдемте вместе через всю древность – в ту тщательно обработанную и щедро орошенную область, что лежит между рекой Индом, отрогами Гималаев и песками великой пустыни. Мы находимся в Септа-Синду, Семиречье, в Счастливой долине, в земле арийцев. В первом же селении, где мы остановимся, Вы увидите на верхушке холма алтарь из камней, покрытый свежим мхом. На нем тускло чадит огонек. Вокруг алтаря ходят люди в полотняных одеждах и с длинными волосами, схваченными обручем из чистого золота. Друг мой, это священники, первые капелланы человечества; на заре майского дня они совершают обряд арийской литургии. Один очищает от коры и сучков поленья, которые будут питать священный огонь; другой долбит в ступке ароматические травы, дающие «сому», [159] и стук его пестика должен греметь, «как бубен победы»; третий, точно сеятель, разбрасывает зерна овса вокруг жертвенника; четвертый простирает руки к небу и затягивает простой, суровый напев. Эти люди, друг мой выполняют обряд, заключающий в себе всю религию арийцев! Цель их – умилостивить Индру, а Индра – это солнце, огонь божественная сила, которая может наслать беду и погрузить в скорбь земледельца: иссушить оросительные каналы, сжечь пастбища, выпустить чуму из болот и сделать Семиречье «бесплодным, как злое сердце». Но та же сила, растопив снега Гималаев и пролив с ударом грома «дождь, бременящий чрево туч», может вернуть воду руслам, зелень лугам, безвредность болотам и изобилие дому арийца. Короче говоря, надо убедить Индру быть арийцу другом и изливать на Семиречье те блага, которые необходимы земледельческому и пастушескому народу. Во всем этом нет и намека на метафизику или этику, нет ни объяснения природы богов, ни правил поведения для людей. Есть просто литургия, совокупность обрядов, которые ариец должен соблюсти, если хочет, чтобы Индра услышал его, – ибо опыт поколений показал, что Индра только тогда услышит его, лишь в том случае дарует искомые блага, если вокруг алтаря некие старцы, принадлежащие к некоей касте и одетые в белое полотно, воспоют ему приятные песнопения, сделают возлияния, принесут дары из плодов, пчелиного меда и мяса ягненка. Без даров, без возлияний, без песнопений и без ягненка Индра прогневится, спрячется в глубинах Невидимого и Недостижимого, не сойдет на землю и не разольется потоками доброты. И если из Вианы-до-Кастело явится некий поэт и отнимет у арийца алтарь, покрытый мхом, священное полено, ступку, сито и сосуд с сомой, то ариец лишится всех способов умилостивить своего бога, и бог больше не услышит его, и «он будет на земле как дитя без пищи, чьих шагов никто не оберегает».
Эта первобытная религия – абсолютный и неизменный образец всех вообще религий. Все они бессознательно воспроизводят этот образец, ибо в нем заключается всякая религия, безотносительно к чуждым ей элементам богословия и этики, вводимым в нее возвышенными умами. Во всех странах, у всех народов, религия обожествляет либо силы природы, либо души мертвых. Все религии состояли или состоят из суммы определенных приемов, при помощи которых простой человек хочет заручиться благоволением божества и получить наивысшие блага: здоровье, силу, мир, богатство. И даже тогда, когда человек, уже более уверенный в своих силах, ищет этих благ у гигиены, порядка, закона и труда, он все-таки продолжает умилостивлять божество обрядами, чтобы божество помогло его усилиям. То, что мы видим в Семиречье, Вы можете проверить (прежде чем мы вернемся в Виану пить молодое монсанское вино, воспетое Вами) на классической древности, причем где угодно: в Афинах или Риме, в момент наивысшего расцвета греко-латинской цивилизации. Если вы спросите древнего – будь-то горшечник из Субурры или сам Flamen Dialis, [160] – в чем заключается его вероучение или сумма моральных принципов, образующих его религию, он ответит непонимающей улыбкой и скажет, что религия – это paces deorum quaerere – умиротворять богов и упрочивать их благоволение, а для этого, по понятиям античного человека, надо исполнять обряды, ритуальные действия и произносить известные слова, ибо долгая традиция доказала, что только этим можно привлечь внимание богов, повлиять на них, завоевать их расположение; и очень важно не изменить ничего в этом церемониале – ни одного слога в молитве, ни одного жеста при жертвоприношении, – иначе богам ко понравится молитва, она не дойдет до их слуха, и боги останутся безучастными и равнодушными; и тогда религия не достигнет своей главной цели: воздействовать на божество; хуже того, религия станет безбожной, и боги, видя в отступлениях от ритуала недостаток веры, немедленно обрушат на неверных молния своего гнева. Расположение складок на тунике священнослужителя, шаг направо, шаг налево, количество капель вина во время возлияния, размер поленьев для жертвенного огня – все эти подробности были у древних раз и навсегда установлены ритуалом, и любое упущение или отступление рассматривалось как нечестие. По существу, это было даже преступление против отечества, потому что могло навлечь на всю страну гнев богов. Сколько погибло легионов, сколько пало крепостей – и все из-за того, что первосвященник уронил щепотку пепла с жертвенника или из-за того, что гаруспекс [161] вырвал слишком маленький клочок шерсти с головы жертвенного ягненка! Поэтому в Афинах наказывали жреца, который изменил церемониал, и сенат низлагал консулов, совершивших даже самую незначительную ошибку в жертвоприношении (например, если тога осталась у них на голове, вместо того чтобы в положенный момент соскользнуть на плечо). Так что, если бы Вы жили в Риме и в блистательных сатирах высмеивали богов, Вы были бы, возможно, великим и любимым комическим поэтом; но если бы Вы вздумали, как в «Старости вечного отца», [162] высмеивать литургию и церемониал, то стали бы врагом общества, изменником родины и были бы брошены в Туллианскую тюрьму.
А если Вам надоела древность и Вы предпочитаете вернуться в нашу философическую эпоху, то в двух великих религиях Востока и Запада, в католичестве и буддизме, вы найдете еще более ясное подтверждение того, что религия – это действительно не что иное, как совокупность обрядов. Богословие и мораль стоят над ними как нечто внешнее, как интеллектуальная игра, излишество и преходящая роскошь; это цветы, которыми украсила алтарь наша фантазия или наша жажда добродетели. Католицизм (и никто не знает этого лучше вас) сводится ныне к краткому перечню практических правил; а ведь нет другого вероучения, в пределах которого разум воздвиг бы столь обширное и величественное здание богословских и нравственных концепций! Но эти концепции – дело ученых и мистиков. По существу, они так и остались достоянием монастырей, где были драгоценным материалом для диалектики и поэзии. Толпе же они неизвестны и никогда не управляли умами и поступками. Сведенные в катехизисы и прописи, эти основные правила заучиваются народом; но вы никогда не убедите народ, что можно верить в бота, служить богу и быть угодным богу лишь тем, что исполняешь десять заповедей. Народ даже убежден, что эти десять заповедей, деяния милосердия и другие моральные предписания катехизиса – не что иное, как стишки, которые надо прошептать губами, и тогда в них проявится чудесная сила: они привлекут благоволение и милость бога. Чтобы служить богу (то есть угождать богу), самое главное – это слушать мессу, перебирать четки, поститься, причащаться, давать обеты, дарить облачения святым и т. д. Только этими обрядами, а вовсе не выполнением нравственного закона, можно расположить к себе бога и получить от него бесценные дары: здоровье, счастье, богатство, мир. Даже рай и ад – эти внеземные формы поощрения и наказания – никогда, по убеждению народа, не даются за исполнение или за нарушение закона. Вероятно, именно поэтому, и вполне резонно, католицизм считает награду и наказание не актом справедливости, но актом милости бога. А милость бога, по представлению простых людей, можно заслужить не безупречной жизнью, а постоянным и неуклонным исполнением обрядов: мессой, постом, покаянием, причащением, чтением молитв по четкам, жертвой, обетом. Иными словами, как в католической вере миньотца, так и в религии арийца, как в Карразеде-де-Ансиайнс, так и в Семиречье вся религия сводится к умилостивлению бота посредством угодных ему благочестивых обрядов. Нет в этом ни богословия, ни морали. Есть только действие существа бесконечно слабого, которое хочет расположить к себе существо бесконечно сильное. И если вы, очищая католицизм от шаманства, устраните священника, епитрахиль, облатку, флакончик со святой водой, то есть ритуал и литургию, то католик сейчас же отвернется от религии, которая не имеет видимой глазу церкви и не дает простых и ощутимых способов вступить в общение с богом, чтобы получить от него сверхчувственные блага для души и чувственные блага для тела. Католицизм в тот же миг рухнет, и миллионы людей потеряют своего бога. Церковь и бог – это все равно, что сосуд и содержащееся в нем ароматическое вещество: церковь распалась – бог испарился.
Если бы у нас было время отправиться в Китай или на Цейлон, мы бы столкнулись с тем же явлением у буддистов. Буддизм выработал самую возвышенную метафизику и самую благородную мораль на свете. Но куда бы ни проникал буддизм – в орды Непала или в китайский мандаринат, – для толпы он всегда состоял из обрядов, церемоний, благочестивых поступков. Самый известный пример – молитвенная мельница. Вы никогда не видели эту мельницу? Увы, она очень похожа на кофейную. Во всех буддийских странах вы увидите ее на улицах городов и на перекрестках дорог. Набожный человек, проходя мимо, должен два раза крутнуть; ручку мельницы, внутри которой лежат написанные на бумаге молитвы; молитвы зашелеетят, и верующий тем самым войдет в общение с Буддой, который за этот акт трансцендентной учтивости «будет ему благодарен и умножит его блага».
Ни католичество, ни буддизм не приходят из-за этого в упадок. Наоборот! Они пребывают в нормальном и естественном для религии состоянии. Чем материальней религия, тем она божественней. Не пугайтесь! Я хочу сказать, что чем больше религия освобождается от умозрительных наслоений богословия, морали, гуманизма и т. д., отбрасывая их в присущие им области философии, этики и поэзии, тем непосредственней создает прямое и простое единение людей с их богом. Это единение достигается без всякого труда: достаточно встать па колени и пробормотать «Отче наш», и в награду абсолютный небесный человек идет навстречу преходящему земному человеку. Вот эта-то встреча и есть самое божественное в религии; чем она материальней, тем божественней.
Но вы скажете (и вы действительно это говорите): «Сделаем общение с богом чисто духовным. Не надо никакого литургического спектакля. Пусть дух человека непосредственно говорит с духом бога». Но для этого нужно, чтобы наступило тысячелетнее царство Мессии и чтобы любой землекоп стал философом и мыслителем. Когда наступит это кошмарное царство и на козлах каждой пролетки будет сидеть Мальбранш. [163] Вам придется создать для новой, совершенной породы мужчин новую, совершенную породу женщин, физиологически отличную от той, которая ныне украшает землю. Ибо пока женщина будет оставаться такой, какую в минуту высокого вдохновения создал Иегова из Адамова ребра, то рядом с ней, ради ее убожества, навсегда придется оставить священника, алтарь и статую богоматери.
Мистическое общение человека с богом, к которому вы стремитесь, навеки останется привилегией избранников духа, привилегией немногих. Для толпы же – будь то толпа языческая, христианская, магометанская, дикая или культурная – религия будет всегда иметь одну цель: выпросить у бога милость и отвести его гнев. И материальным средством достижения этой цели всегда будут храмы, священники, алтари, богослужения, облачения, образа. Спросите среднего человека – не философа, не моралиста, не мистика, а человека из толпы, – что значит верить в бога. Англичанин скажет: «Верить в бога – значит, опрятно одевшись, пойти к воскресной службе и петь гимны». Индус скажет: «Верить в бога – значит совершать каждый день «poojak» [164] и приносить дань Махадеве [165]». Африканец скажет: «Верить в бога – значит приносить Мулунгу положенную порцию муки и мяса». Миньотец скажет: «Верить в бога – значит слушать мессу, перебирать четки, поститься по пятницам, причащаться на пасхе». И все они будут вполне правы, потому что цель их, как людей религиозных, – общение с богом, и все, о чем они говорят, суть способы войти в общение с богом, соответствующие уровню их цивилизации и форме принятых в их обществах литургий. Конечно, для вас и для других избранных религия представляет собой нечто совсем другое – как она была иной для Сократа в Афинах и для Сенеки в Риме. Но человеческие массы не состоят из Сократов и Сенек, к счастью для масс и для тех, кто ими управляет, включая и вас, ибо вы тоже хотите их учить!
Но вы все-таки не унывайте, дорогой друг! Даже у самых простых душ встречаются формы веры в божество, вполне свободные от литургических и обрядовых ритуалов. Один такой акт веры, восхитительно простой и чистый, я наблюдал сам. Это было на берегах Замбези. Негритянский военачальник по имени Лубенга накануне объявления войны соседнему вождю пожелал войти в сношение со своим богом, своим Мулунгу, который был, как полагается, его обоготворенным предком. Однако весть или просьба, которую вождь желал сообщить своему божеству, была слишком важной и тайной, чтобы передавать ее через колдунов с их церемониями. Что же делает Лубенга? Он зовет раба, обстоятельно и медленно шепнет ему на ухо свое послание, проверяет, все ли раб понял, все ли запомнил, затем хватает топор, отрубает рабу голову и спокойно возглашает: «Ступай!» Душа раба пошла прямиком на небо, к Мулунгу, наподобие запечатанного письма с маркой; но несколько минут спустя вождь хлопает себя ладонью до лбу, поспешно зовет другого раба, наскоро шепчет ему на ухо еще несколько слов, отсекает ему топором голову от туловища и кричит: «Иди!»
Он забыл какую-то подробность в своем послании к Мулунгу… Второй раб был постскриптумом!
Этот простой способ общения с богом, несомненно, порадует ваше сердце.