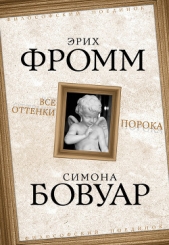Мандарины

Мандарины читать книгу онлайн
«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа, «исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время» (Ф. Миттеран). События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр). Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея — в этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире. Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится наконец достоянием и русского читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Подождем, посмотрим, как обернется этот вечер, — сказала я.
— Глупо, — возразил он. — Вы хотите, чтобы мы говорили о политике или психологии в то время, как в голове у нас будут бродить совсем иные мысли? Вы должны знать, на что решитесь, так скажите это прямо сейчас.
Его нетерпение убедило меня в том, что в конечном счете я — не моя старая мать; приходилось верить, что я, пускай хоть на один час, желанна, раз он меня желал. Надин утверждала, что лечь в постель — это все равно что сесть за стол: она, возможно, права; она обвиняла меня в том, что я иду по жизни в лайковых перчатках, так ли это? Что произойдет, если я сниму свои перчатки? А если я не сниму их этим вечером, сумею ли я вообще когда-нибудь их снять? «Моя жизнь кончена», — резонно говорила я себе; но вопреки всякому резону мне оставалось убить еще много лет.
— Хорошо, — сказала я вдруг, — пусть будет да.
— А! Вот это хороший ответ, — молвил он ободряющим тоном врача или преподавателя. Он хотел взять мою руку, но я отказалась от подобного вознаграждения.
— Мне хотелось бы кофе. Боюсь, я слишком много выпила. Скрясин улыбнулся.
— Американка попросила бы еще виски, — сказал он. — Но вы правы: не годится, чтобы один из нас потерял рассудок.
Он заказал два кофе, наступило неловкое молчание. Я сказала «да» в значительной степени из симпатии к нему, по причине той мимолетной близости, которую он сумел создать меж нами, а теперь это «да» остудило мою симпатию. Как только наши чашки опустели, он сказал:
— Поднимемся ко мне в комнату.
— Прямо сейчас?
— А почему нет? Вы же видите, что нам нечего больше сказать друг другу. Мне хотелось бы побольше времени, чтобы свыкнуться со своим решением;
я надеялась, что в результате нашего пакта постепенно возникнет взаимопонимание. Но факт оставался фактом: мне нечего было больше сказать.
— Поднимемся.
Комната была заставлена чемоданами; там стояли две медные кровати, на одной из которых лежали бумаги и одежда; на круглом столе — пустые бутылки из-под шампанского. Он обнял меня, я почувствовала на своих губах радостные, неистовые губы; да, это оказалось возможно, и это было легко; со мной что-то происходило: что-то другое. Я закрыла глаза, погружаясь в сон, столь же тяжелый, как действительность, после которого я проснусь на заре с легким сердцем. И тут я услышала его голос: «Похоже, девушка оробела. Мы не причиним девушке зла; мы лишим ее невинности, но не причиним зла». Эти слова, адресованные не мне, жестоко пробудили меня. Я пришла сюда не для того, чтобы играть роль изнасилованной девственницы или какую-либо другую. Я вырвалась из его объятий.
— Подождите.
Я скрылась в ванной комнате и наспех занялась туалетом, отбросив всякие думы: думать было слишком поздно. Он присоединился ко мне в постели, прежде чем в голове у меня зародилась хоть какая-то мысль, и я уцепилась за него: теперь он был моей единственной надеждой. Руки его сорвали с меня комбинацию, ласкали мой живот, и меня захлестнула темная волна желания; подхваченная качкой, затопленная зыбью, вознесенная, низринутая, порой я падала с кручи в пустоту; я готова была погрузиться в беспамятство, в ночь — какое плавание! Его голос отбросил меня на кровать: «Я должен проявить осторожность?» — «Если можно». — «Ты не приняла меры?» Вопрос прозвучал столь неожиданно, что я вздрогнула. «Нет», — сказала я. «Ну почему?» Снова тронуться в путь было нелегко; и опять я собралась с духом в его объятиях, насыщаясь молчанием, прижималась к нему, всеми порами впитывая его жар: мои кости, мускулы плавились в этом огне, и покой обвивал меня мягкими спиралями, когда он властно сказал: «Открой глаза».
Я приподняла веки, но они были тяжелыми и сами собой вновь опустились, потому что резал свет. «Открой глаза, — повторил он. — Это ты, это я». Он был прав, и я не собиралась прятаться. Однако прежде надо было привыкнуть к столь необычному факту: существованию моей плоти; смотреть на его чужое лицо и под его взглядом погружаться в себя — все сразу это было чересчур. Я смотрела на него, ибо он того требовал, остановившись на полпути к смятению, где-то в краю без света и тьмы, где я была бестелесной, бесплотной. Он откинул простыню, и в ту же минуту я подумала, что в комнате не так тепло и что тело у меня уже не девичье; я представила его любопытству останки, которым было ни жарко ни холодно. Его губы припали к моей груди, поползли по животу и спустились к лону. Я снова поспешно закрыла глаза, всем своим существом ища прибежища в наслаждении, к которому он вынуждал меня: наслаждении отчужденном, одиноком, словно срезанный цветок; а там истерзанный цветок воспламенялся, осыпался, и для него одного он бормотал слова, которых я пыталась не слышать; но я, я томилась. Он вернулся ко мне, на какое-то мгновение его пыл оживил меня; он властно вложил мне в руку свой член, я гладила его без воодушевления, и Скрясин с упреком сказал:
— Ты не любишь по-настоящему мужскую плоть.
На этот раз он попал в точку. «Как любить этот кусок мяса, — подумалось мне, — если я не люблю мужчину целиком? И где мне взять нежности для этого мужчины?» В глазах его светилась враждебность, которая обескураживала меня, хотя я и не была виновата перед ним, даже по упущению.
Когда он проник в меня, ничего особенного я не почувствовала, а он сразу же снова начал говорить всякие слова. Мой рот был запаян цементом, и даже вздох не мог бы раздвинуть мои стиснутые зубы. На мгновение он умолк, потом сказал: «Посмотри». Я слабо покачала головой: то, что происходило там, меня почти не касалось, и если бы я посмотрела, то сочла бы себя любительницей подсматривать эротические сцены. «Тебе стыдно! — сказал он. — Девушка стыдится!» Такое достижение отвлекло его на минуту, затем он заговорил снова: «Скажи мне, что ты чувствуешь? Скажи мне». Я безмолвствовала. Я угадывала присутствие в себе, по-настоящему не чувствуя его, — так с удивлением ощущают сталь дантиста в онемевшей десне. «Тебе хорошо? Я хочу, чтобы ты испытала наслаждение». В голосе его звучало раздражение, он требовал отчета: «Ты его не испытываешь? Ничего, ночь длинная». Ночь будет слишком короткой и вечность — слишком короткой: я знала, партия проиграна. Я спрашивала себя, как с этим покончить: чувствуешь себя безоружной, когда ночью одна находишься во вражеских руках. Разжав зубы, я выдавила из себя несколько слов. «Не обращайте на меня внимания, оставьте меня...»
— А ведь ты не холодная, — сердито сказал он. — Ты сопротивляешься головой. Но я заставлю тебя...
— Нет, — возразила я. — Нет...
Мне было очень трудно что-либо объяснить. В глазах его отражалась самая настоящая ненависть, и я устыдилась того, что позволила себе поддаться сладостному миражу плотского удовольствия: я поняла, мужчина — это не хаммам {Баня (араб.)}.
— Ах, ты не хочешь! — говорил он. — Не хочешь! Упрямая голова!
Он легонько ударил меня в подбородок; я слишком устала, чтобы искать прибежище в гневе, меня охватила дрожь: кулак опускается, тысяча кулаков... «Насилие всюду», — думалось мне; я задрожала, и потекли слезы.
Теперь он целовал мои глаза, нашептывая: «Я пью твои слезы», лицо Скрясина выражало покоряющую нежность, возвращавшую его в детство, и мне стало жалко и его, и себя: мы оба одинаково были потеряны, одинаково разочарованы. Я гладила его волосы, заставляя себя, согласно заведенному обычаю, говорить «ты»:
— Почему ты меня ненавидишь?
— Ах, это неизбежно, — с сожалением отвечал он. — Неизбежно.
— Я тебя не ненавижу. Мне нравится быть в твоих объятиях.
— Это правда?
В каком-то смысле это была правда; что-то произошло: пускай неудачно, печально, смешно, но зато реально. Я улыбнулась:
— Ты заставил меня провести странную ночь: никогда у меня не было такой ночи.
— Никогда? Даже с молодыми людьми? Ты не лжешь? Слова солгали за меня: я взяла на себя их ложь.
— Никогда.
Он с жаром прижал меня к себе, потом снова проник в меня. «Я хочу, чтобы ты наслаждалась одновременно со мной, — сказал он. — Хочешь? Ты мне скажешь! Это теперь...»