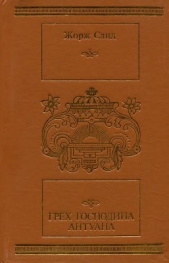Встречи господина де Брео

Встречи господина де Брео читать книгу онлайн
Наиболее значительный из французских писателей второй половины XIX века, Анри де Ренье может быть назван одним из самых крупных мастеров слова, каких знает мировая литература. Произведения его не только способны доставить высокое эстетичное наслаждение современному читателю, но и являются образцом того, как можно и должно художественно творить.
Перевод с французского под общей редакцией М. А. Кузмина, А. А. Смирнова и Фед. Сологуба.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Между тем молва о странных похоронах довольно быстро распространилась и дошла до моих ушей. Со времени смерти госпожи де Гриньи я жил в необыкновенном состоянии духа, где были смешаны чувства горечи и ужаса. Как! Это тело, роскошную красоту которого я видел в ту короткую и роковую ночь, гниет обезображенное! Теперь его везут неведомо куда и заточат в гробницу! Почему мною не были изведаны, как господином де Бертоньерем, его ласки и прелести? Эта мысль оставляла в уме ужасающую обиду и жгучее сожаление. Так что я испытывал непреодолимый соблазн присутствовать при предстоящей церемонии; может быть, при виде, как опускают в землю то, что было герцогиней де Гриньи, я освобожусь от жестокого желания, жало которого меня преследовало, и найду забвение, приличествующее этим событиям, отравленное воспоминание о которых могло быть для меня только пагубным. С другой стороны, надругание, которое мстительный супруг хотел присоединить к своим жестокостям, налагало, казалось мне, на меня обязанность не покидать той, которой я так восхищался. В эти минуты герцогиня переставала для меня быть полуобнаженной женщиной, застигнутой врасплох во время прелюбодеяния; она снова делалась благородной дамой, какой я ее видел однажды вечером, выходящей из кареты при свете факелов перед подъездом особняка де Гриньи, и образ которой я сохранил запечатленным в своем сердце. Ее-то я и хотел сопровождать до могилы и почтить своими слезами.
Приняв такое решение, я стал думать о средствах его выполнения. У меня оставалось немного денег, заработанных на концертах мэтра Пюселара. С этими сбережениями я и направился к церкви, где герцогские слуги производили свой набор. Я с давнего времени знаком был со всеми нищими с паперти; этим самым я иногда и давал, проходя, мелочь. Между ними был некто Жан Ракуйо. На лице у него была короста, что делало его достаточно безобразным, но не приводило в дурное расположение духа, потому что по вечерам он ее соскабливал, а наутро делал новую. Наловчившись в таких проделках, он снискивал себе пропитание. Я не сомневался, что этот молодец одним из первых нанялся на должность, о которой я говорил. Я не ошибся. Сейчас же я сообщил ему свой план. Дело шло попросту о том, чтобы он в данном случае уступил мне свое место. Он был очень удивлен моей просьбой, но не видел никаких препятствий к подобному обману. Так что на предложение он согласился, хотя и не понимал, какое мне удовольствие тащиться за гробом; но деньги убедили его, и даже он стал находить, что так будет очень хорошо. Мы столковались. Он обещал мне одолжить свои лохмотья, нужные для моей новой роли, и изобразить на лице у меня коросту так же искусно, как он делал на своем. Загримировав меня таким образом, он предупредил товарищей о замене; мне оставалось только пойти к особняку де Гриньи под вечер, — и никто ничего не заметил.
Когда я явился к особняку де Гриньи, я был очень взволнован. Меня послали к месту, где уже собрались мои товарищи. В низкой и темной зале смутно копошились тени. Не успел я туда войти, как чуть не задохся от дурного запаха, хотя я и привык к зловонию, исходившему от лохмотьев, которыми меня снабдил добрейший Жан Ракуйо. Мне не дали долго раздумывать над неловкостью своего положения: два лакея меня грубо схватили, один набросил на меня что-то вроде длинного развевающегося платья, другой сшиб у меня с головы шляпу и напялил картонную корону. Взбешенный и озадаченный, я только что хотел спросить, что все это значит, как принесли свет, и я мог оглядеться.
Что за зрелище, сударь! Я готов был сбросить с себя шутовское платье и бумажный венец. Какого странного карнавала оказался я участником! Одного за другим я узнавал актеров и понял лицемерного и отвратительного зачинщика всего этого. Первыми бросились мне в глаза Жан Гильбер, горбун, и Люси Робин. Лицо ей разрисовали ярко-розовой краской, как свиное рыло, через расстегнутый лиф видны были ее груди, как тыквы, и, раскачиваясь худым и костлявым телом, она приподымала юбку над башмаками с большими бантами; на рыжих и нечесаных космах была гирлянда из цветов; вырядившись таким манером, она жеманилась вызывающим образом. Горбун же, весь в черном, таскал за собой плоский мешок. Далее — Шарль Лангрю, одетый в желтое, в каске со свивающимися змеями и с нашитыми на спине языками. Толстый Клод Лардуа, в красном, опирался на алебарду рядом с Жаком Рагуаром, сплошь обмотанным веревками, на которых были повешены сосиски и колбаса, — и, наконец, огромная Жюстина Лекра, страдающая водянкой, словно набитая пухом, кривая и лоснящаяся, со всегда полусонным лицом. У каждого на шее висела надпись, какую и мне надели; на моей золотыми буквами было написано: Гордость; на других я прочитал: Любострастие, Скупость, Зависть, Гнев, Чревоугодие, Леность. Ввиду того что герцогиня де Гриньи выразила желание быть погребенной как простая грешница, герцог и решил дать ей в качестве свиты фигуры, олицетворяющие самые грехи.
На площади собралась большая толпа, когда, наряженные таким манером, мы вышли из особняка де Гриньи, чтобы сесть на повозки, на которых нам предстояло ехать. Соседи пришли подивиться на ту, что, презрев мирскую пышность, хотела, чтобы провожали ее одни бедняки. Такое отречение нравится простонародью; оно видит в этом знак смирения и доказательство, что мы отличаемся от него только по условиям жизни, а не по существу. Они любят, когда и мы признаем равенство всех перед лицом смерти, и они одобряли герцогиню де Гриньи за то, что, умирая, она вспомнила про общий для всех нас удел. Но, когда они увидели наше появление, на минуту они были поражены. Им было бы понятно, что за телом знатной дамы идут семеро нищих, так как перед правосудием Божиим она сама не более как нищая, просящая его о милосердии. Но что они могли подумать о представившемся их глазам зрелище? Почувствовали ли они все его неприличие и издевательство? Я не ручаюсь за это, но при нашем появлении пробежал глухой ропот, заставивший поднять голову герцога, стоявшего в глубоком трауре за гробом своей жены, уже водруженным на дроги.
Минута была странной, сударь. У меня мелькнула мысль, что в нас запустят камнями и стащат с нас наши тряпки. Факелы, высоко поднятые слугами, ярко освещали все наше скоморошество. Я уже поднес руки к своей короне из золотой бумаги, как вдруг посреди наступившего молчания раздался взрыв смеха, за ним другой, третий, пятый, десятый, рты раскрылись, лица побагровели; переходя от соседа к соседу, смех заразил всю площадь, женщин, стариков, мужчин, детей, факельщиков, наконец, нас самих.
Да, сударь, Сластолюбие, изображаемое Люси Робин, и горбун Жан Гильбер — Скупость — надрывались от смеха, Шарль Лангрю — Зависть, толстый Лардуа — Гнев и Жак Рагуар, олицетворяющий Чревоугодие, — держались за бока, у Жюстины Лекра — Лености — трясся огромный живот от хохота; все хохотали, кроме герцога де Гриньи, который не смеялся и дал знак кучеру трогать в гущу толпы, забывшей, что за нашим маскарадом таится тем не менее подлинное лицо смерти.
Г-н Эрбу перевел дыхание и продолжал:
— Повозка, на которой я находился, следовала непосредственно за дрогами, где помещался гроб герцогини де Гриньи. Четверо герцогских слуг с факелами верхами ехали за ним по неровной мостовой, на которой он ужасно колыхался. Я не мог еще прийти в себя от нашего отъезда. Этот смех, эти крики звенели еще у меня в ушах. Мне было жарко. Я вытер пот с лица и вспомнил, что на мне корона. Мало-помалу вспомнил и роль, которую я исполнял в этом мрачном фарсе. Мне сделалось очень стыдно, и, чтобы отогнать мысли, я огляделся вокруг.
В глубине повозки сидел толстый Лардуа рядом с толстухой Жюстиной Лекра; на передней скамеечке вместе со мною — Жак Рагуар: Гнев, Леность, Чревоугодие и Гордость путешествовали в компании. От отвращения у меня перехватило горло, и я стал смотреть в дверцы. Улицы, по которым мы проезжали, были почти безлюды. Повозка катилась все время по скверной мостовой. Иногда прохожий останавливался, пораженный странной нашей процессией, и исчезал во мраке.