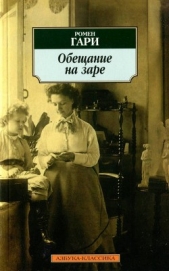Обещание на рассвете (Обещание на заре) (др. перевод)

Обещание на рассвете (Обещание на заре) (др. перевод) читать книгу онлайн
Пронзительный роман-автобиография об отношениях матери и сына, о крепости подлинных человеческих чувств.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Лорд Байрон! Пушкин! Виктор Гюго!
Кроме того, я занимался классической борьбой, надеясь когда-нибудь победить на чемпионате мира, и вскоре снискал себе в школе прозвище Джентльмен Джим. Я не был самым сильным, далеко нет, но лучше, чем кто-либо, принимал позы, полные благородства и элегантности, производя впечатление человека, преисполненного силы и достоинства. У меня был свой стиль, и я, как правило, побеждал.
Месье Дьёлёвё-Колек внимательно вчитывался в мои поэтические творения, так как, само собой разумеется, я писал не по-русски и не по-польски. Я писал по-французски. В Варшаве мы были всего лишь проездом, меня ждала моя страна, и мне нельзя было забывать об этом. Я восхищался Пушкиным, который писал по-русски, и Мицкевичем, писавшим по-польски, но так и не понял, почему они не создали свои шедевры на французском. Ведь и тот и другой получили хорошее образование и знали наш язык. Такое отсутствие патриотизма представлялось мне мало понятным.
Я никогда не скрывал от своих польских товарищей, что нахожусь среди них проездом и что мы рассчитываем вернуться к себе при первой же возможности. Эта упрямая наивность не облегчала мне жизни в школе. На переменах, когда я с важным видом прогуливался по коридорам, вокруг меня часто собиралась небольшая группка учеников. Они серьезно смотрели на меня. Затем один из них выходил вперед и, обращаясь ко мне в третьем лице, как это принято по-польски, почтительно спрашивал:
— Похоже, товарищ опять отложил свой отъезд во Францию?
Я продолжал путь.
— Нет смысла приезжать в середине учебного года, — объяснял им я. Надо ехать к началу.
Товарищ одобрительно кивал. Потом он замечал:
— Надеюсь, товарищ предупредил, чтобы там не беспокоились?
Они толкали друг друга локтями, и я отлично видел, что они смеются надо мной, но я был выше их оскорблений. Они не могли меня задеть. Моя мечта была намного важнее самолюбия, и игра, в которую я был вовлечен, хотя и делала меня посмешищем, но укрепляла в моих упованиях и надеждах. В конце концов я оборачивался к ним и спокойно отвечал на все вопросы, которые мне задавали. Как я думаю, труднее ли учиться во Франции? Да, очень трудно, намного труднее, чем здесь. Там много занимаются спортом, и я рассчитываю всерьез заняться фехтованием и классической борьбой. Обязательна ли там форма в лицеях? Да, обязательна. Как выглядит эта форма? Ну, она синяя с золотыми пуговицами и серо-голубыми фуражками, а по воскресеньям там надевают красные брюки и фуражки с белым пером. Носят ли там саблю? Только до воскресеньям и в последний год. Начинают ли там занятия с пения «Марсельезы»? Да, естественно, там поют «Марсельезу» каждое утро. Не хочу ли я спеть им «Марсельезу»? Да простит мне Бог — я выставлял одну ногу вперед, прижимал руку к сердцу, потрясал кулаком и зажигательным голосом пел свой национальный гимн. Да, я, как говорится, шел у них на поводу, но все же я не был дураком и прекрасно видел насмешливые лица, прятавшиеся друг за друга, чтобы прыснуть со смеху. Но мне на это было плевать, и, безучастно стоя посреди бандерильерос, [13] я чувствовал, что впереди меня ждет великая страна, и не боялся ни сарказма, ни насмешек. Эти шутки продолжались бы и дальше, если бы небольшая группа провокаторов не затронула самого дорогого. Все началось как обычно, когда пятеро или шестеро учеников постарше почтительно окружили меня.
— Смотри-ка, товарищ все еще здесь? А мы-то думали, что он уехал во Францию, где его с нетерпением ждут.
Я уже собирался пуститься в обычные объяснения, как вдруг вмешался старший из группы:
— Там бывших кокоток не принимают.
Я уже забыл, кто был этот мальчик, и не знаю, откуда у него были такие странные сведения. Надо ли говорить, что ничто в прошлом моей матери не оправдывало подобной клеветы? Может быть, моя мать и не была «великой драматической актрисой», как она нередко выражалась, но тем не менее она играла в одном из лучших французских театров Москвы, и все свидетели ее молодости, знавшие ее в то время, отзывались о ней как о гордячке, которую ни на минуту не опьянила, не сбила с пути ее необычайная красота.
Но мое удивление было так велико, что приняло вид трусости. Сердце у меня упало, глаза заволокло слезами, и я первый и последний раз в жизни повернулся спиной к своим врагам. С тех пор я больше не пасовал ни перед чем и ни перед кем, но в тот день я растерялся, и бесполезно отрицать это. Какой-то миг я был в замешательстве.
Когда мать вернулась домой, я бросился к ней и все рассказал. Я ждал, что она обнимет и утешит меня, как она умела это делать. Но то, что произошло, было для меня полной неожиданностью. Внезапно выражение нежности и любви исчезло с ее лица. Она не окатила меня волной сострадания и жалости, как я ждал. Она ничего не сказала и долго почти холодно смотрела на меня. Потом отошла, взяла со стола сигарету и закурила. Затем пошла на кухню, которую мы делили с хозяевами квартиры, и занялась моим ужином. Ее лицо было безучастно, непроницаемо, и часто она бросала на меня почти враждебные взгляды. Не знаю, что со мной сделалось. Бесконечная жалость к себе охватила меня. Я почувствовал себя обиженным, обманутым, покинутым. Мать приготовила мне постель, опять-таки молча. В эту ночь она не ложилась. Проснувшись утром, я увидел, что она по-прежнему сидит у окна в старом кожаном кресле цвета морской волны с сигаретой в руке. Паркет был усыпан окурками: она всегда кидала их где попало. Мать бросила на меня отсутствующий взгляд и отвернулась к окну. Кажется, теперь я знаю, о чем она думала, — по меньшей мере, догадываюсь. Должно быть, она спрашивала себя, стою ли я труда, имеют ли смысл все ее жертвы, усилия, надежды, не стану ли я таким же, как все, не поступлю ли с ней так же, как когда-то поступил один человек. Она приготовила мне три яйца всмятку и чашку шоколада, смотрела, как я ем. Впервые легкая нежность мелькнула в ее глазах. Должно быть, она говорила себе, что мне всего лишь двенадцать лет. Когда я принялся складывать свои учебники и тетрадки, чтобы идти в школу, ее лицо снова посуровело:
— Ты больше не пойдешь туда. Кончено.
— Но…
— Ты поедешь учиться во Францию. Только… Сядь. Я сел.
— Послушай, Роман.
Я удивленно взглянул на нее. Это было уже не Романчик-Ромушка. Она впервые отказалась от уменьшительных. Я почувствовал страшное волнение.
— Слушай меня внимательно. В следующий раз, когда это случится, когда при тебе будут оскорблять твою мать, в следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках. Ты понимаешь?
Я застыл с раскрытым ртом. Ее лицо было непроницаемо, очень сурово. В глазах — ни тени жалости. Я не мог поверить, что это говорит моя мать. Как она может? Не я ли ее Ромушка, ее маленький принц, ее сокровище?
— Я хочу, чтобы тебя принесли домой в крови, ты слышишь меня? Даже если у тебя не останется ни одной целой кости, ты меня слышишь?
Ее голос нарастал, она наклонилась ко мне со сверкающими глазами, почти крича.
— Иначе нет смысла уезжать… Незачем туда ехать.
Глубокое чувство несправедливости охватило меня. Мои губы стали кривиться, глаза наполнились слезами, я раскрыл рот… Больше я ничего не успел. Страшная пощечина обрушилась на меня, потом еще и еще. Мой ужас был столь велик, что слезы исчезли как по волшебству. Впервые мать подняла на меня руку. И как все, что она делала, это не было сделано наполовину. Оцепенев, я застыл под ударами. Я даже не ревел.
— Запомни, что я сказала. С этого дня ты будешь защищать меня. Мне все равно, что они с тобой сделают. Самое страшное — другое. Ты умрешь, если будет надо.
Я все еще делал вид, что не понимаю, что мне только двенадцать лет, пытался увильнуть, но прекрасно все понимал. Мать заметила это и успокоилась. Она шумно вздохнула — признак удовлетворения — и пошла налить себе стакан чаю. Она пила чай с сахаром вприкуску. Взгляд у нее был отсутствующий. Она что-то придумывала, комбинировала, рассчитывала. Затем выплюнула остаток сахара на блюдечко, взяла сумочку и вышла. Мать направилась прямо во французское консульство и предприняла энергичные шаги, чтобы нам разрешили постоянное жительство в стране, где, как она написала в прошении, составленном господином Дьёлёвё-Колек, «мой сын имеет намерение обосноваться, выучиться и стать человеком». Но здесь формулировка, вероятно, неточно выражала ее замыслы, просто она до конца не отдавала себе отчета в том, чего, в сущности, ждала от меня.