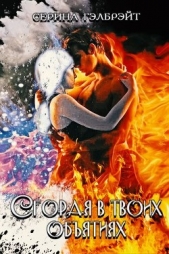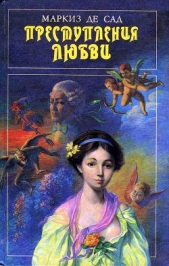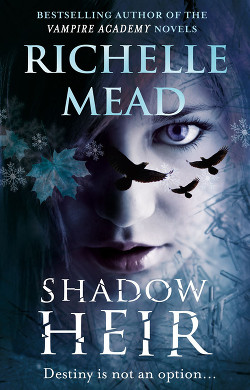Дочь Евы
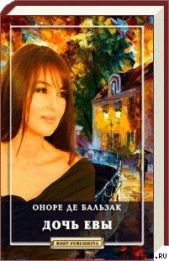
Дочь Евы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Разве этого мало? — сказала сестре графиня. — Вот так возвращать жизнь мертвецам!.
— Ты можешь записаться в общество спасения на водах, — ответила, улыбаясь, Эжени.
— Каким он пришел грустным, подавленным, и каким уйдет довольным!
— Ну, как ты себя чувствуешь, душа моя? — спросил дю Тийе, подойдя к Раулю с самым дружелюбным видом и пожимая ему руку.
— Как человек, только что получивший превосходные известия о выборах, — ответил, сияя, Рауль. — Я буду депутатом.
— Очень рад, — ответил Тийе. — Нам понадобятся деньги для газеты — Мы их разыщем, — сказал Рауль.
— На стороне женщин — сам дьявол! — сказал это Тине, хотя и не совсем доверял словам Натана, которого он прозвал Шарнатаном — Это ты к чему?
— В ложе у жены сидит моя свояченица, — продолжал банкир. — Здесь что-то кроется. Графиня, как мне кажется, обожает тебя, она тебе кланяется через всю залу — Погляди, — сказала сестре г-жа дю Тийе, — жен-шин называют фальшивыми созданиями. Мой муж любезничает с господином Натаном, а между тем он-то и сможет засадить его в тюрьму!
— И мужчины еще смеют нас упрекать! — воскликнула графиня — Я открою ему глаза.
Она встала, снова оперлась на руку Ванденеса, ждавшего ее в коридоре, и, сияя, вернулась в свою ложу; затем уехала из Оперы, велела подать наутро карету к восьми часам и уже в половине девятого, заглянув на улицу Майль, прибыла на набережную Конти.
Карета не могла въехать в узкий Неверский переулок, но Шмуке жил на углу набережной, и графине не пришлось шагать по грязи, — спрыгнув с подножки, она сразу очутилась у замызганного и полуразрушенного подъезда этого старого темного дома, скрепленного железными скобками, как фаянсовая посуда у швейцаров, и покривившегося так, что прохожие поглядывали на него с опаскою. Старый капельмейстер жил в четвертом этаже и любовался прекрасным видом на Сену от Нового моста до холма Шайо. Добряк был так поражен и растерян, когда лакей графини возвестил ему появление его бывшей ученицы, что впустил ее к себе. Графиня никогда не могла бы ни предугадать, ни вообразить внезапно открывшуюся перед ней картину жизни Шмуке, хотя ей давно известно было его полное пренебрежение к костюму и безучастие ко всему земному. Кто мог бы представить себе такую неряшливость существования, такую совершенную беспечность? Шмуке был музыкальным Диогеном, он не стыдился своего беспорядка и даже не замечал его, настолько к нему привык. Непрерывное употребление славной большущей немецкой трубки покрыло потолок и жалкие, кое-где изодранные кошкой обои золотистым налетом, который придавал предметам обстановки вид позлащенной жатвы Цереры. Кошка находилась тут же, как хозяйка дома, бородатая, важная и спокойная; на ее роскошную шелковистую шкурку, мохнатую и взъерошенную, позарилась бы не одна привратница. Торжественно восседая на крышке превосходного венского фортепьяно, она устремила на вошедшую графиню вкрадчивый и холодный взгляд, каким бы ее приветствовала каждая женщина, удивленная ее красотою Она не выказала никакого беспокойства, только шевельнула двумя серебряными нитями прямых своих усов и перевела на Шмуке золотистые глаза Дряхлое фортепьяно дорогого дерева, покрытое черным лаком с позолотой, но грязное, выцветшее, облупленное, скалило свои клавиши, истертые, как зубы у старой лошади, и пожелтевшие от табачного дыма. Кучки пепла на пюпитре говорили о том, что накануне Шмуке на своем старом инструменте мчался на какой-нибудь музыкальный шабаш. Пол был усеян пятнами высохшей грязи, клочками бумаги, пеплом из трубки и всяким мусором, как это бывает в меблированных комнатах, где пол не подметали целую неделю и слуге приходится выгребать целую груду невообразимого хлама, представляющего собою нечто среднее между навозом и тряпьем Более опытный, чем у графини, глаз нашел бы сведения о жизни Шмуке в кожуре каштанов и яблок, в скорлупе крашеных пасхальных яиц, в разбитых по неловкости тарелках со следами тушеной капусты. Эти отложения германской культуры образовали ковер пыльных отбросов, хрустевших под ногами. Он сливался с грудой золы, которая величественно низвергалась из покрашенного облупившегося камина, где за двумя словно испускающими дух головешками высилась раскаленная горка углей. Над камином висело зеркало, в котором отражения плясали сарабанду; по одну его сторону висела знаменитая трубка, по другую стояла китайская ваза, где Шмуке хранил свой табак. Два по случаю купленных кресла, тощая плоская кушетка, комод без мраморной доски и весь в червоточинах хромоногий стол, на котором виднелись остатки скудного завтрака, — вот и вся меблировка, немногим более сложная, чем в индейском вигваме. Зеркальце для бритья, висевшее на шпингалете окна без занавесок, и изрезанный ремень для правки бритвы свидетельствовали о жертвах, которые Шмуке приносил грациям и свету. Кошке, существу слабому и нуждающемуся в покровительстве, предоставлена была лучшая доля: она пользовалась старой диванной подушкой, подле которой стояли фарфоровая чашка и блюдце. Но никаким пером не описать состояния, в которое привели всю мебель старик Шмуке, кошка и трубка — вся эта дружная троица. Трубка там и сям прожгла стол Кошка и голова Шмуке так засалили плюшевую обивку обоих кресел, что лишили ее всего ворса. Если бы не роскошный хвост кошки, составлявший часть хозяйственного инвентаря, свободные места на комоде и камине так и оставались бы необметенными. В углу валялись во множестве башмаки, заслуживающие эпически подробного описания. Комод и фортепьяно завалены были потными тетрадями, с обтрепанными, вспоротыми корешками, с побелевшими, затупившимися уголками, в которых картон расслоился на тысячу листков. Вдоль стен приклеены были облатками адреса учениц. Следы облаток без бумажек указывали число прекративших занятия. На обоях можно было прочесть записанные мелом счета. Комод уставлен был кружками накануне выпитого пива, и они казались новыми и яркими посреди всего этого старья и бумажного хлама. Гигиена представлена была кувшином с водою, накрывавшим его полотенцем и куском простого мыла, белого в синих крапинках, увлажнившего во многих местах розовое дерево комода. Две одинаково ветхие шляпы и тот самый долгополый сюртук с тремя воротниками, который графиня всегда видела на Шмуке, висели на вешалке. На подоконнике стояли три горшка с цветами, без сомнения немецкими, а подле него дубовая трость. Зрение и обоняние графини были неприятно поражены, но улыбка и взгляд Шмуке скрасили нищету обстановки небесными лучами, от которых заблестел золотистый налет на всех вещах и оживился этот хаос. Дивная душа человека, знавшая и постигавшая столько дивных вещей, сияла, как солнце. Смех, которым он разразился при виде одной из своих «святых Цецилий», такой искренний, такой простодушный, звучал молодостью, радостью, невинностью. Эти рассыпанные перед гостьей сокровища, самые бесценные для человека, обратились в лучезарную пелену, скрывшую под собой его бедность. Даже самый надменный выскочка, быть может, счел бы низостью обращать внимание на обстановку, среди которой взволнованно жил этот великолепный апостол музыкальной религии.
— Какими судьбами ви сдесь, торогая графинья? — воскликнул он. — Уш не пропеть ли мне в моем фозрасте «Nunc dimittis»? [1] — Эта мысль усилила приступ его безудержного веселья. — Какое сшастье мне прифали-ло? — продолжал он с лукавым видом и снова закатился детским смехом. — Вы приекали ради музики, а не ради бетного старика, я снаю, — сказал он вдруг меланхолично, — но ради чего би ви ни пришли, снайте, что сдесь все принадлешит вам, душа, тело и весь мой имус-шество!
Он взял руку графини, поцеловал и уронил на нее слезу, ибо добряк никогда не забывал добра, которое делали ему. От радости он на миг лишился памяти, потом мысли его прояснились. Он схватил мел, вскочил на кресло у фортепьяно и со стремительностью юноши написал на обоях крупными буквами: 17 февраля 1835 года.
Этот порыв, такой милый, такой наивный, исполненный такой горячей благодарности, глубоко тронул графиню.