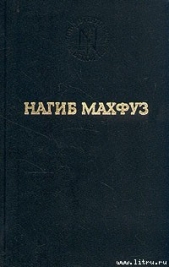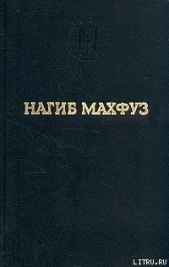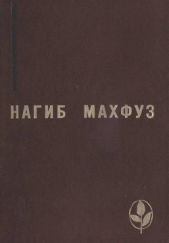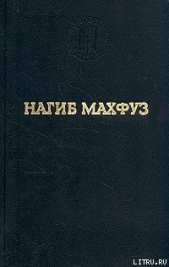Пастораль сорок третьего года

Пастораль сорок третьего года читать книгу онлайн
В книгу известного голландского писателя Симона Вестдейка вошел роман «Пастораль сорок третьего года».
Оптимизм, вера в конечную победу человека над злом и насилием — во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах, — несомненно, составляют наиболее ценное ядро во всем обширном и многообразном творчестве С. Вестдейка и вместе с выдающимся художественным мастерством ставят его в один ряд с лучшими представителями мирового искусства в XX веке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Добравшись до дамбы, где навстречу ему по мосту катили на велосипедах крестьяне, он облегченно вздохнул. Третьим велосипедистом была Мария Бовенкамп, которую он сразу узнал по красной косынке. Он преградил ей дорогу, и она соскочила с седла, но узнала его, только когда он, избегая толчеи, пошел рядом с ней, ведя ее велосипед за руль. В другой руке он держал фуражку, вечерний ветерок теребил его длинные каштановые волосы; опьяняясь собственными словами, он нес всякую околесицу, по временам поглядывая на Марию, но не видя ее. На вопрос, свободна ли она сегодня вечером, она ответила, что должна выполнить кой-какие поручения, и тогда он предложил ей встретиться позднее, соврав, что раньше все равно занят и поэтому проводить ее до города не может. Они остановились у высокой стены речной дамбы, а наверху, прислонясь к перилам, стояли матросы и городские парни. Он поспешно условился встретиться с Марией в девять вечера у трамвайной остановки возле леса, отдал ей велосипед, и только она вскочила в седло, как со стены полетело вниз оскорбление, которое он так боялся услышать. «Предатель!» — прокричали хором три-четыре голоса, остальные же громко и презрительно захохотали и заулюлюкали. Мария свернула в круто спускавшуюся вниз боковую улочку, а Кеес, пунцовый, как рак, пошел вдоль набережной в направлении нижнего шлюза, терзаемый отчаянным желанием вернуться и как следует огреть этих олухов. «Сбить бы кого-нибудь с ног, — думал он, — или выдать полиции всю банду, всех этих проклятых большевиков. Надо позвонить в гестапо». Но он этого не сделал и пошел дальше.
Он предпочел держаться окраины. Если Мария не придет на свидание, значит, она слышала насмешки, которые неслись ему вслед; сколько девушек уже считали его предателем, сколько раз оставляли его с носом! Он лениво брел мимо домиков рабочих, стоявших на топком грунте, мимо вилл, окруженных садами, в которых сосны как бы являли собой передний край леса. Размышляя, Кеес порой даже спрашивал себя, а может, он и впрямь предатель? На собраниях энседовцев их маленького округа в первые дни после капитуляции, когда, как говорили, даже сами немцы обвиняли НСД в предательстве, они смело смотрели в глаза этому обвинению; они не боялись дискуссии с противником (воображаемым), считавшим их предателями, теоретически допуская возможность, что эта оскорбительная кличка имеет право на существование. Все сомнения разрешил в своем заключительном выступлении кринглейдер, которого предварительно накачали в штабе. Все зависит от того, сказал он, что подразумевать под словом «родина». Если понимать страну как родную почву, то член НСД не может быть предателем, потому что это движение борется за чистоту крови и за национальную почву, что наглядно выражено красно-черным знаменем. Цель НСД — добиться процветания родины, сделать ее жителей зажиточными и счастливыми, а сохранит ли она самостоятельность или станет частью германского жизненного пространства и будет управляться как область или провинция немецкого рейха, — не играет роли. Тот, кто подменяет понятие родины понятием государства, может, конечно, в какой-то мере считать их «изменниками родины», но это следует понимать в смысле «государственный изменник», вроде Вильгельма Оранского, Кромвеля и других крупных реформаторов, которые всегда были государственными, политическими преступниками. Эти знаменитые исторические деятели видели, что их государство не на должной высоте, и хотели его перестроить или на худой конец разрушить. Но это не имело никакого отношения к родине как конкретной земле с ее грунтом, наносной почвой, с ее песками, речной глиной…
Когда часов около девяти вечера Кеес Пурстампер приблизился к трамвайной остановке, он вынужден был признаться самому себе, что все эти хитроумные софизмы ничуть не улучшили его настроение, и, только заприметив вдали красную косынку, он повеселел и уже не в первый раз примирился со своей партией.
По широкой, обсаженной буками дороге они шли прямиком к уединенным местечкам, и Кеес решил поговорить в открытую. Мария помалкивала, толстые, слегка отвислые губы придавали ее лицу туповатый вид; он сообразил, что разговаривать с ней нужно, как с ребенком. Поминутно натыкаясь на педали ее велосипеда, он сказал:
— Ты, конечно, слыхала, как они там орали наверху, будто я предатель? Я знаю, кто зачинщик, и мне наплевать на них. Ну а ты, ты тоже такое думаешь обо мне?
— Что ты предатель? Еще чего!
Она сказала это не очень искренно, но таким тоном, как если бы само предположение было нелепым и незачем тратить слова, чтобы его опровергнуть. И Кеес обрадовался.
— То, что они болтают, просто смешно. Я для своей родины готов на все. Но родина — это ведь… это не только наша страна, не этот маленький клочок земли, это… — И он взмахнул рукой, указывая на сосны, мимо которых они шли к расчищенной площадке, где лежали штабеля распиленных деревьев. — Родина — это все в целом, я хочу сказать, что наша страна — это часть… это часть жизненного пространства. Родина — это люди, что в ней живут, это крестьяне! Мы боремся за крестьян, за их моральное и физическое благополучие, за лучшие для них условия жизни и прочее, потому что крестьяне — это, как бы тебе сказать… это хребет страны. Это тебе известно?
— Нет, — равнодушно сказала Мария, отмахиваясь от того, чего она не знала.
— Крестьянское сословие должно стать первым сословием, вот за что мы боремся. Понятно? Надо возродить уважение к труду. Об этом среди прочих дел заботится ландштанд. О нем ты, наверное, слышала?
— Это Крестьянский союз, где мы каждый год берем напрокат жнейку?
— Да нет, — заколебался он, — впрочем, может, и тот самый, я толком не знаю… — Он прекрасно знал, что не тот, но ему не хотелось сломать хрупкий, шатающийся мостик между ним и ее мирком. — Разве ты не видишь, что крестьяне теперь зарабатывают больше, чем раньше?
— Ну, это само собой.
— Вот видишь. Мы ведь боремся за вас, понятно?.. Я уверен, что рано или поздно ты будешь с нами, — неуклюже закончил он.
Они миновали вырубку. Сосну сменили бук и береза. Кеес недоумевал, почему Мария идет с ним в такую даль вплоть до самого леса, не спросив даже, куда они идут и когда вернутся. Паром перевозил только до десяти часов вечера. Но как бы там ни было, каждый новый шаг приближал его к тому, что, как он полагал, должно было произойти по меньшей мере на три или четыре недели позднее.
— Буду с вами?
— Ну да, в НСД.
— Этого еще не хватало, — сказала Мария Бовенкамп подчеркнуто презрительным тоном, и хотя эти слова не относились к нему лично, тем не менее опрокидывали все его расчеты. Чтобы несколько смягчить отказ, он спросил, а что, дома у нее и в деревне тоже настроены против НСД? К этой уловке он прибег потому, что опасался спросить ее прямо, что она сама думает об НСД.
— Конечно, — ответила Мария, замедля шаг. — У нас дома и в деревне все против. Ведь у нас теперь все отбирают и нам почти ничего не остается. Отец говорит, что крестьяне никогда не работали так зазря, как теперь. И все из-за мофов. Разве нет? А вы вот с ними заодно. Это факт.
Ох уж эти немцы! Без них было бы гораздо лучше, даже для НСД! Тогда бы маленькое ядро, состоящее из избранных, могло спокойно привлечь на свою сторону остальные девяносто пять процентов населения Нидерландов, и никто бы не называл их предателями…
— С немцами заодно? — осторожно переспросил он. — Видишь ли, все зависит от того, как на это смотреть. Вообще-то мы не за немцев. Хотя они и обещали нам, что наш народ останется независимым, но политика есть политика, и потом, мы ведь тоже германцы, а германцы должны быть заодно с германцами, разве не так? Но в каких-то отношениях мы все же другие германцы, не такие, как немцы. Есть среди нас и такие, что настроены определенно против немцев. И это понятно — ведь нам, безусловно, хотелось бы таскать каштаны из огня для себя, а не для них. Вот если б мы пришли к власти без них… без мофов, тогда, наверное, все пошло бы по-другому.
— Значит, и ты против мофов? — Она остановилась и удивленно взглянула на него из-под своих белых ресниц, таких белых, что их было совсем не видно на фоне белой кожи.