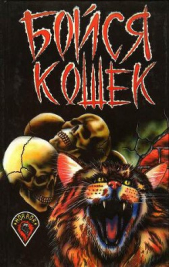Заговор равнодушных

Заговор равнодушных читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Увлекаюсь сваркой лонжеронов. Привезите мне какой-нибудь новый рецепт.
– Это само собой. А так ничего вам не надо? Все равно неудобно приезжать без подарков.
– Благодарствую. Кто-то из мудрецов, не то Сенека, не то Козьма Прутков, говорил: раз ты принимаешь подарки, очевидно, ты богатый человек. Что касается меня, то мне они не по карману.
– Не слыхал такого афоризма. Очевидно, этого Козьму Пруткова в просторечии звали Карабутом… Вас куда, к райкому?
– Если вам не трудно…
– Вижу, что язык английского клуба вовсе вам не чужд. Изъясняетесь на нем великолепно… Вот мы и приехали. Так как же по-вашему: стоим мы сейчас на достаточно твердой почве, чтобы пожать друг другу руку или нет?
– Для меня решение бюро – достаточно твердая почва. Для вас – не знаю.
– Коль уж на то пошло, то я, кажется, протягивал вам руку первый. И до решения бюро, на заседании, и после. Значит, работаем? Честно и по-большевистски?
– Я иначе не умею.
– Если подеремся, то пусть перья из нас летят, но чтобы на заводе это не отражалось!
– Какой же смысл тогда драться? Пусть отражается, но положительно.
– А знаете, Филипп Захарыч, вы не поверите, но я искренне рад, что нас оставили вместе. На следующий день после вашего ухода я наверняка смертельно бы заскучал. Всего вам хорошего, Карабут. Давайте лапу еще раз. Ну, живите, здравствуйте, работайте и не поминайте лихом!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
И вот, оплевав дымом окрестные поля, поезд с неистовым воем врывается в пригород. «Мицци, Мицци, где мой шарф? Ты его, наверно, засунула в чемодан!» Скрипят ремни от портпледов. И крик и беготня по коридору.
А за окном, прихрамывая, уже бегут навстречу заборы, заборы, рыжие, одинокие стволы фабричных труб, красные квадратные дома и приземистые домишки с тусклыми глазницами окон и провалившимся носом дверей, бегут трансформаторы и провода, густые, как струны рояля, и опять дома в пестрых пластырях реклам.
Поезд, споткнувшись на стрелке, путает привычный размер и, приноравливаясь к упрямой скандировке заборов, послушно отстукивает такт: «И ныне, и присно, как встарь, германским останется Саар!…»
Да, ведь через четыре дня в Сааре плебисцит!
А уже внизу, под колесами, одна за другой, нагибаясь, прошмыгивают улицы. У пивной на углу, заглядевшись на поезд, дружно, как по команде, зевают два эсэсовца. Собака, задрав заднюю лапу, поливает фонарный столб. «Курите только папиросы „Мурата Приват“. И опять дома, заборы, прямая просека улиц, две старухи с продуктовыми сумками, неподвижные, как памятник, у пустынной остановки трамвая, лощеный шупо в черной лакированной каске, похожей на надетый на голову детский унитаз, а потом окна, окна, запотевшие, разрисованные инеем, сквозняк окон, занавесок, тюлевых штор и пухленькая блондинка в ореоле из папильоток над тихим горшком герани. „Съев бифштекс или котлетку, не забудь принять таблетку „Бульрихзальц“… „Бульрихзальц“, «Бульрихзальц“…
Где-то вдали промелькнула безыменная товарная станция, и длинный состав красных вагонов оборвался внезапно, как отрезанный шнур сарделек. Окруженный свитой автобусов и легковых машин, поезд вкатывает в город. Вот они все остались позади, отнесенные в сторону медленным течением проспекта. Поезд, громыхая, летит над крышами домов, над внезапно разверзающимися гулкими пропастями улиц – Берлин! Берлин! – и через минуту снова врезается в плоть города, рассекая ее пополам, как круг швейцарского сыра, весь усеянный дырками окон. Плакаты, плакаты, дома. «Тверди, как заповедь божью: правда не может стать ложью! Саар, мы знаем заранее, не может жить без Германии!»
Человек в потертом пальто толкает стеклянную дверь. Огромная вывеска «Ашингер». Газетчик со ртом, раскрытым для крика, размахивает белым флагом газеты. Господин с поднятым воротником остановился у витрины аптекарского магазина. «Нет таких или очень редко, кто не знал бы свойств таблетки „Бульрихзальц“. И опять, как упрямый рефрен: „И ныне, и присно, как встарь, германским останется Саар!…“
Поезд бежит, оглушен и окаркан этим назойливым словом, стаей этих слов, слетающей навстречу с каждого рекламного столба: Саар! Саар! Саар!…
Запыхавшийся, истекающий паром, он врывается на вокзал.
Фридрихштрассе!
Крикливый косяк людей. Из вагонов на перрон гурьбой прут пузатые чемоданы. Вслед за чемоданами поодиночке выползают люди. Вспышки восклицаний и поцелуев. «Ах, Франц, как ты плохо выглядишь!…» – «Осторожно, не кидайте, там фарфор!…»
Релих протискивается за носильщиком и долго дрейфует в толпе, окруженный щебечущей стаей японцев. Сколько их! Откуда! Ехало всего семеро, а вдруг стало не меньше тридцати!
Выбравшись из толчеи, он озираетсл вокруг. Вокзал как вокзал: пассажиры, носильщики, шупо. Первое, что бросается в глаза, – это полное отсутствие штурмовиков. Он готов удивиться, но вспоминает про 30 июня. Очевидно, после неприятности с Ремом всех их понемножку убрали со сцены. Зато эсэсовцы представлены в совершенно достаточном количестве. Подтянутые, в своей черной форме они кажутся штурмовиками в трауре.
На площади перед вокзалом ветер и снег. «Чем расстегивать жилетку, съев обед, прими таблетку „Бульрихзальц“. „Саар! Саар! Немецкая вотчина! Не будешь отщепенцами опорочена!“… Дверца такси закрывается, как диафрагма.
В гостинице по фурору, который производит его красный советский паспорт, Релих легко заключает, что советские граждане теперь здесь редкие гости. Он направляется к лифту, почтительно провожаемый портье и любопытными взглядами всей гостиничной челяди.
Комната с мраморным камином после пыльного купе ослепляет чистотой, словно вылизанная языком. Пухлые немецкие амуры, поддерживающие часы, осовело смотрят с камина. Хрупкий бой в шапочке паяца втаскивает чемоданы.
– Сударь… – слышит вдруг за спиной Релих.
Он вопросительно поворачивает голову.
– Разрешите смелость: в России… очень холодно? – спрашивает парнишка, пожирая Релиха глазами, горящими любопытством.
Релих чувствует, что парню хочется спросить совсем о другом. Смущение боя забавляет его. Достаточно ответить, что в России холодно, но хорошо, и парень, ухватившись за это слово, как за протянутый палец, засыплет вопросами. Но Релиху не хочется протягивать палец. Роясь по карманам в поисках мелочи, он отвечает равнодушно:
– Сейчас холодно, полоса морозов, а так ничего, средне.
Он достает из кармана две марки.
Бой, заметив его жест, торопливо и конфузливо исчезает за дверью. Когда Релих протягивает деньги, парня в комнате уже нет. Релих выглядывает в коридор и видит у поворота быстро удаляющуюся треугольную спину. Удрал! Вот чудак!
Распаковав чемодан, Релих принимает ванну, переодевает костюм и спускается вниз. В парикмахерской его стригут, бреют, массируют, пудрят, приводят в порядок ногти и забавляют светским разговором. Основные темы дня: резкая перемена европейского климата и флемингтонский процесс. Действительно ли Гауптман похитил ребенка Линдберга? Не надобно ли и здесь «шерше ля фам»? Вот хотя бы, возьмите, эта шикарная нянечка, фрейлейн Бетти Гоу, не кажется ли она вам немножко подозрительной?
Тем временем часы с амурами на мраморном камине стрелками, как циркулем, уже отворяют вторую половину дня. Пора обедать.
В ресторане отеля седой господин во фраке с перекинутой через руку салфеткой скорбно сообщает Релиху, что сегодня «эйнтопфгерихт» – обед из одного блюда в фонд «зимней помощи». Таков декрет имперского правительства.
На столе перед Релихом появляется тарелка рисовой каши с рассеянными в ней тут и там, как изюминки, мелкими клочками мяса.
Очистив тарелку без особого аппетита, Релих безропотно платит по счету, как за нормальный обед из четырех блюд, и в кисловатом настроении поднимается к себе наверх. Время довольно позднее.
Он решает свой визит в полпредство отложить до завтра и сегодняшний день посвятить бесцельным шатаниям по Берлину.