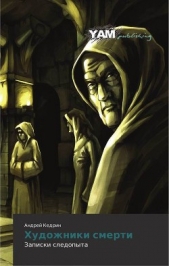Прозаические переводы

Прозаические переводы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ведь это же безумие, она это видела. И, нужно сказать, она уже не сердилась на него на общих вечерних прогулках, окруженная прелестью уже наступавшего лета. Она смеялась, она все время смеялась. Можно было таскать ее с собой по маленьким ресторанам на берегу озера, откуда вставал туман, сажать ее, голубыми ночами, за столик, по которому ползают мухи, — все ее забавляло. Ей было весело смотреть, как расставляют на ресторанной скатерти обычные hors-d'oeuver; тонкие ломтики сырых томатов, ярких, как мясо, сельдерей, наверное хрустящий, как тростник, и сохранивший вкус земли, маслины, обернувшиеся вокруг своих косточек, и все эти маленькие серебряные рыбки, задушенные перцем.
И тем временем, как эти блюда переходили из рук в руки, музыка — богемская или неаполитанская — играла.
Музыкант-дирижер вел оркестр мановением руки, смеялся, как фокусник, когда удавались мелодии, единым знаком поднимал и опускал тона скрипок и выказывал себя таким знатоком человеческих нервов.
С лицом, усиленным лихорадкой, Сабина страстно вписала в себя эти мягкие романсы, которые, по скользким струнам скрипок, растягивали ее душу от наслаждения к томлению.
Но как она уставала!
Была ли она создана для этой жизни без внутренней передышки, в мишурном блеске стеклянных ресторанов?
Не была ли она, верней, человеком одиночества? Что она больше всего любила в жизни? Мечту, воображение, мирное однообразие дней. Конечно, она была когда-то счастливой, в начале замужества, когда столькими туманными желаниями населяла белую пустоту, когда медленно просыпалась утром, не зная, ни который сейчас год, ни сколько ей лет, — так благость дней казалась ей бесконечной.
Как она когда-то любила летом сидеть перед горячим гравием сада и бегать осенью под красной листвой орешников, где сверкали, крепко пришитые к своим зеленым колпачкам, орехи из шелковистого дерева…
Она также любила некогда все, что в домах и в комнатах: летнюю зарю, пойманную в жестких ситцевых занавесках, и, когда откроешь октябрьским утром окно, первое дуновение ветра, пахнущего анисом и виноградом.
Она любила старые пузатые комоды и на круглом столе скатерть из бабушкиной шали, подушки с бахромой, каминные ширмы из жесткого фая, цвета сердечника, все вещи, хранящие душу г-жи де Саблиер, Люсили и королевы Гортензии.
Не лучше ли ей было бы предоставить другим их вечерние развлечения и оставаться дома, устраивая себе мирную, мечтательную жизнь?
Но Пьер ее беспокоил. Минутами она не узнавала лица своего друга. Теперь, говоря с ним, она не решалась, как раньше, положить ему руку на руку.
Глухая раздражительность г-жи де Фонтенэ, ее нервность удивляли и огорчали Пьера Баланса.
Видя, что вокруг нее реет тревога, он смутно убоялся пышных трагедий, для которых его сердце уже не годилось.
Он чувствовал себя обкраденным в дружбе с ней. Он был уже не так счастлив, совсем уже не был. Ему как-то вдруг стало трудно от этой нежной дружбы, которую он старался продлить, вопреки Сабине, очевидно, от нее уставшей. Тогда его душа, выбитая из колеи, бессознательно начала защищаться.
Г-жа де Фонтенэ, не хотевшая терять того немногого, что имела в жизни, — большой дружбы Пьера, удерживала его взглядами, более заботливыми, чем материнские руки: удержать, не терять того, что имеешь, не упускать времени, сохранить любовь или дружбу, как в детстве стараешься удержать, продлить короткий божественный Сочельник… Она сама во всем виновата: если бы она все эти последние месяцы не огорчала, не расстраивала Пьера Баланса своим дурным характером, он бы еще был этим товарищем с глубоким сердцем и братским смехом; он бы еще был этим любопытным и сдержанным слушателем — тем, что ее так раздражало! — верным другом каждого часа и будущего, другом, которого она в душе упрекала за это спокойствие.
Теперь она его больше не понимала, и он уже не умел обращаться с ее душой. Не расставаясь, не переставая говорить друг с другом, они забыли друг друга, и теперь неловко пытались воссоздать прежнее понимание; но грусть Сабины и ее показное веселье и разочарование Пьера, переходившее в небрежность, ускоряли разрыв.
Сердечное горе у г-жи де Фонтенэ пробуждало в ее памяти самые отдаленные острые воспоминания. Все, что у нее было, с первого детства, разочарований и горя, возвращалось к жизни, и тогда она страдала поистине, как дети, чье сердце кидается в слезы.
С лицом и руками, мокрыми от слез, с душой, как ножом, перерезанной нежностью и слабостью, она говорила себе, что ничего не умеет беречь в жизни, что, должно быть, состарится и умрет, оттолкнув от себя все, вплоть до священной дружбы.
И вот уже она ни в чем не упрекала Пьера, только удивлялась тому, что она не видит, как ей сейчас больно и жалко и как нежно служит ему ее мысль. Она чувствовала себя грустной, добродетельной и мудрой, утомленной этим новым горем, потерявшей молодость сердца, но готовой жить терпеливо и благородно. Пусть Пьер еще раз подойдет к ней, она скажет ему все это и еще то, чтобы они — она, Анри и он — остались простыми и добрыми друзьями.
Недовольство, испытанное Пьером Балансом, усыпило его мысль и, пользуясь этим сном, его инстинкт увлекал его из тьмы, где орудовали тревога и усилие; он больше ничего не хотел. Испытав горе, он не заботился о том, что могла чувствовать г-жа де Фонтенэ.
Теперь г-жа де Фонтенэ по-детски старалась вернуть прошлое. Она устроила поездку на лодке, нанятой на целый вечер.
Были только свои: Анри, она, Пьер и Жером с женой. В минуту отплытия было еще светло, и на плоском серебре воды, таявшей и брызгавшей у кормы, алые и серые отсветы сумерек двигались и изображали волны.
По обеим сторонам Сены проходили холмы и откосы.
В Сюрене, Сэн-Клу и Севре виднелись маленькие виллы — старинные и жеманные, — усложненные итальянской живописью и мавританской резьбой; одна из них, известково-белая, с куполом и террасой, поистине воскрешала Восток, вызывая на спокойном небе кислый, растущий звук тунисской флейты.
На одном из холмов, выступая из частной зелени, какое-то прямое здание строгого стиля напоминало старинную гравюру и желтело, как пенковая трубка.
Обратный путь совершался в прелести тени, в тайне дымной реки, похожей на каналы Голландии. Прибрежные фонари и огни разлатых товарных барок погружались в оживленную воду и вытягивались, смятые и сборчатые, как горящая гармоника. Сабина, которую все волновало: шум воды, запах дегтя, красный фонарь вдали, — думала о Пьере, чье спокойствие ее расстраивало, ибо ночь — так ей казалась — всем говорит одно.
Ужас, сладость желания и вы, поцелуи, которые Джульетта срывает с губ и бросает к звездам, и вы, соловьи, что плачете в кустах, и вы, лягушки, с вашим таинственным скрипучим криком на мягких прудах, устланных плоскими листьями, — не вы ли отчаянные души ночи, и те, кто вас понимают, не несут ли они в груди все ваши рыданья?..
Несколько дней спустя, когда Пьер объявил, что в конце недели уезжает на все лето в Бургундию, к брату, где будет работать — так как, по его утверждению, потерял весь этот год, — Сабина сказала себе:
— Он нехорош со мной, но он вспомнит все в минуту прощания, всегда немного похожую на смерть.
И день настал. Пьер, занятый своим чемоданом, поездом и часами, уже не видел друзей, собравшихся для него на вокзале. Сабина держалась в стороне, предвидя минуту смущения и самозабвения, когда, держа ее за обе руки, Пьер Баланс, внезапно взволнованный, с глазами, полными воспоминаний, обменяется с ней своей глубочайшей сущностью; и тогда дружба восстановится путем писем.
Дверцы вагона уже закрывались, и Жером кричал Пьеру:
— Скорей! Скорей! Садитесь!
Тогда, забывая всю свою спешку и поезд, могущий тронуться, Пьер с лицом, покрытым тяжким облаком дружбы и острой тоской расставанья, обнял Анри и крепко прижал его к себе, потом пожал руку Жерома, долго-долго держал в своей — руку Марии и затем, ища Сабину, стоявшую позади всех, сказал ей: