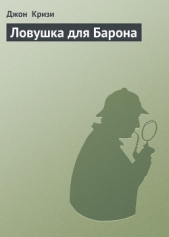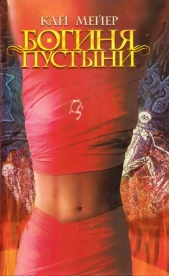Венера в мехах

Венера в мехах читать книгу онлайн
Скандально знаменитая книга австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах» (1870) прославилась тем, что стала первой отчетливой попыткой фиксации и осмысления сексуально-психологического и социокультурного феномена мазохизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я молчал.
– О, погоди, – ты еще завизжишь у меня, как собака под кнутом! – и вслед за угрозой посыпались удары.
Удары сыпались мне на спину, на руки, на затылок, быстрые, частые и со страшной силой… я стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Вот она хлестнула меня по лицу, горячая кровь заструилась у меня по щекам, но она смеялась и продолжала наносить удары.
– Только теперь я понимаю тебя, – говорила она в промежутках между ударами. – Какое наслаждение иметь такую власть над человеком, и вдобавок над человеком, который любит… ведь ты меня любишь?.. О, погоди! – я еще терзать тебя буду… с каждым ударом будет расти мое наслаждение! Ну, извивайся же, кричи, визжи! Не будет тебе от меня пощады!..
Наконец она, по-видимому, устала.
Она швырнула хлыст, растянулась на оттоманке и позвонила.
Вошли негритянки.
– Развяжите его.
Едва была развязана веревка, я грохнулся, как бревно, на пол. Черные женщины засмеялись, обнажив свои белые зубы.
– Развяжите ему веревки на ногах.
Это было сделано. Я мог подняться.
– Поди сюда, Григорий.
Я подхожу к прекрасной женщине, еще никогда не казавшейся мне такой соблазнительной, как теперь, в припадке жестокости, в глумлении.
– Еще на шаг ближе, – приказала она. – На колени и целуй ногу!
Она протягивает ногу из-под белого атласного подола, и я, сверхчувственный безумец, припадаю к ней губами.
– Теперь ты целый месяц не увидишь меня, Григорий, – говорит она серьезно, – ты отчуждишься от меня за это время и таким образом легче освоишься со своим новым положением у меня. В течение этого времени ты будешь работать в саду и ожидать моих приказаний. А теперь – ступай, раб!
Месяц прошел с однообразной правильностью в тяжелом труде, в тоскливом томлении – в томлении по той, которая причинила мне все эти страдания. Я прикомандирован к садовнику, помогаю ему ставить подпорки к деревьям, к плетням, пересаживать цветы, окапывать клумбы, подметать дорожки, посыпанные гравием. Я делю его грубый стол и его жесткое ложе, встаю с курами и ложусь спать с петухами.
Время от времени до меня доходит слух, что наша госпожа веселится, что она окружена поклонниками, а раз я услышал даже сам ее веселый смех, донесшийся до сада.
Я кажусь себе совершенно глупым. Отупел ли я от этой жизни, или я и раньше был глуп?
Месяц подходит к концу – послезавтра кончается срок. Что-то она теперь сделает со мной? Или она совсем обо мне забыла и я буду до праведной кончины своей подпирать деревья и вязать букеты?
Письменное приказание:
«Рабу Григорию сим повелеваю явиться служить мне лично.
Ванда Дунаева».
С сильно бьющимся сердцем раздвигаю я утром следующего дня портьеры из дама и вхожу в спальню моей богини, еще утопающую в прелестном полусвете.
– Это ты, Григорий? – спросила она, когда я, стоя на коленях, растапливал камин.
Я весь затрепетал при звуке любимого голоса. Ее самой мне не видно, она почивает, недоступная, за опущенным пологом кровати.
– Так точно, сударыня.
– Который час?
– Девять пробило.
– Завтрак.
Я бегу за ним и, принеся поднос с кофе, опускаюсь с ним на колени у ее постели, за пологом.
– Вот завтрак, госпожа.
Ванда раздвигает полог и – странно! – в первое мгновение, когда я ее увидел с распущенными волнами волос на белых подушках, она показалась мне прекрасной, но совершенно чужой; дивные, но незнакомые, любимые черты; это лицо жестко и дышит чуждым выражением усталости, пресыщения.
Неужели это было и раньше и я только не замечал этого?
Она обращает свои зеленые глаза на меня – больше с любопытством, чем с угрозой или с состраданием,– и натягивает на обнаженные плечи темный меховой ночной халат, в котором она почивает.
В это мгновение она так волшебно, так головокружительно прекрасна, что я чувствую, как кровь ударила мне в голову, прихлынула к сердцу и поднос задрожал в моей руке. Она это заметила и взялась за хлыст, лежавший на ее ночном столике.
– Ты неловок, раб, – говорит она, нахмурив брови.
Я опускаю глаза и держу поднос, как только могу, крепко, а она пьет свой кофе, зевает и потягивается своим дивным телом в великолепных мехах.
Она позвонила. Я вошел.
– Это письмо князю Корсини.
Я помчался в город, передал письмо князю, красивому молодому человеку с жгучими черными глазами и, весь истерзанный ревностью, принес ей ответ.
– Что с тобой? – спрашивает она, вглядываясь в меня. – Ты страшно бледен.
– Ничего, госпожа, – немножко запыхался от быстрой ходьбы.
За завтраком князь сидит рядом с ней, и я должен прислуживать им обоим, а они шутят, и я совершенно не существую ни для нее, ни для него. На мгновение у меня потемнело в глазах, и я пролил на скатерть и на ее платье бордо, которое в ту минуту наливал ему в рюмку.
– Ты неуклюж! – воскликнула Ванда и дала мне пощечину.
Князь засмеялся, засмеялась и она, а мне кровь ударила в лицо.
После завтрака она едет кататься в маленькой коляске, запряженной английской лошадью, и сама правит. Я сижу позади нее и вижу, как она кокетничает и кланяется, улыбаясь, когда кто–нибудь из знатных господ здоровается с нею.
Когда я помогаю ей выйти из коляски, она слегка опирается на мою руку – прикосновение пронизывает меня электрическим током. Ах, она все же дивная женщина, и я люблю ее больше, чем когда-либо.
К обеду, к шести часам вечера, явились несколько дам и мужчин. Я служу за столом и на этот раз не проливаю вино на скатерть.
Одна пощечина стоит ведь больше десятка лекций – она так быстро воспитывает, в особенности когда ее наносит маленькая, полная женская рука, поучающая нас.
После обеда она едет в театр Pergola. Спускаясь с лестницы в своем черном бархатном платье с широким горностаевым воротником, с диадемой из белых роз в волосах,– она ослепительно прекрасна. Я откидываю подножку, помогаю ей сесть в карету. У подъезда театра я соскакиваю с козел; выходя из кареты, она опирается на мою руку, затрепетавшую под сладостной ношей. Я открываю ей дверь ложи и затем жду ее в коридоре.
Четыре часа длится спектакль, все это время она принимает в ложе своих поклонников, а я стискиваю зубы от бешенства.
Далеко за полночь раздается в последний раз звонок моей повелительницы.
– Огня! – коротко приказывает она и так же коротко: – Чаю! – когда огонь в камине затрещал.
Когда я вошел с кипящим самоваром, она уже успела раздеться и накидывала с помощью негритянки свое белое неглиже.
После этого Гайдэ удалилась.
– Подай ночной меховой халат, – говорит Ванда, потягиваясь с сонной грацией всем своим дивным телом.
Я беру с кресла халат и держу его, пока она лениво просовывает руки в рукава. Затем она бросается на подушки оттоманки.
– Сними мне ботинки и надень мне бархатные туфли.
Я становлюсь на колени и стягиваю маленький ботинок, который не сразу снимается.
– Живо, живо! – восклицает Ванда. – Ты мне больно делаешь! Погоди-ка, я с тобой расправлюсь!