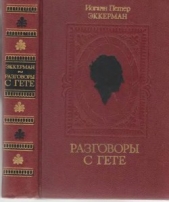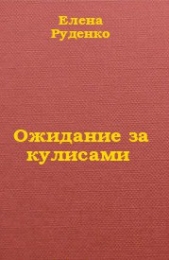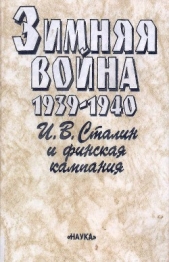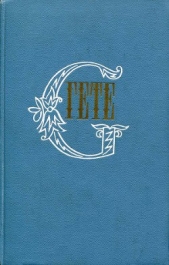Кампания во Франции 1792 года

Кампания во Франции 1792 года читать книгу онлайн
В «Кампании 1792 года» Гете не «проходит мимо грандиозных сдвигов в мировой политической жизни». Две политические формации поставлены друг против друга, две армии решают судьбы истории: армия полуфеодальной Европы и армия революционной Франции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
10 октября.
Подросток, водивший нас по улицам пришедшего в запустение города, спросил, случалось ли нам когда-нибудь отведать несравненных верденских пирожков, и, не получив утвердительного ответа, тут же повел нас к знаменитейшему мастеру по этой части. Мы вошли в просторное помещение, по стенам которого стояли большие и малые жестяные печки, а в центре комнаты — столы и скамьи для немедленного поглощения здешних изделий. Великий пекарь вышел нам навстречу, но лишь для того, чтобы бурно изъявить свое отчаяние: он-де не может услужить нам за отсутствием масла. Засим он продемонстрировал нам свои запасы пшеничной муки тончайшего помола, — «Но что мука без молока и масла!» — похвалялся он своим талантом, одобренным местными жителями, а также восторгами путешественников, и все продолжал горько сетовать, что как раз теперь, когда он мог бы показать свое искусство таким знатокам, как мы, и тем самым приумножить свою славу, ему недостает необходимейшего. Он заклинал нас раздобыть масло где угодно и намекнул на то, что стоит только приложить усилия, и масло отыщется. Успокоился он, лишь когда мы ему пообещали привезти масло из Жарден-Фонтена, если поживем здесь подольше.
Оказалось, что наш юный проводник разбирается не только в слоеных пирожках, но не менее тонко и в красивых личиках. Мы как раз проходили мимо фешенебельного особняка, из окна которого выглянула на редкость хорошенькая головка. На вопрос, кто она такая, он назвал ее родовое имя и добавил: «Да, этой головке надо теперь покрепче держаться на плечах. Ведь и она из тех, кто подносил цветы и фрукты прусскому королю. Ее семейство, верно, думало, что все будет по-старому. Но — увы! — страница истории снова перевернулась, и я теперь не хотел бы поменяться с нею местами». Все это он произнес равнодушнейшим голосом, как будто иначе и быть не могло, да никогда и не будет по-другому.
Мой слуга вернулся из Жарден-Фонтена, где он навестил нашего бывшего хозяина, чтобы вернуть ему письмо, предназначавшееся его сестре-парижанке. Веселый насмешник встретил Пауля с обычным добродушием, угостил его как нельзя лучше и попросил передать приглашение также и его господину, которого обещал накормить на славу.
Увы! Тому не суждено было статься. Едва мы повесили котел над огнем, совершив все положенные церемонии и снабдив его необходимыми ингредиентами, как явился ординарец, любезно возвестив нам от имени коменданта, господина де Курбьера, что мы должны готовиться к отъезду из Вердена завтра в восемь часов утра. Это нас огорчило до крайности. Подумать только! Нам, еще не успевшим отдохнуть, разлучиться с нашим уютным кровом и спасительным очагом, чтобы вновь погрузиться в грязь и мокрядь окружавшей нас пустыни! Мы было заикнулись о болезни юного корнета и герцогского камердинера, но в ответ услышали, что нам надо как можно скорее выезжать из города, так как этой же ночью будут вывезены все больные и раненые за исключением вовсе не способных перенести такое испытание. Нас объял страх и ужас. Ведь никто из моих соратников не ставил под сомнение, что союзная армия сохранит за собой Верден и Лонгви, а быть может, захватит и ряд других крепостей, чтобы встать на зимние квартиры в хорошо укрепленных городах. Сразу расстаться с этой надеждой было слишком горько, почему мы и склонялись к предположению, что комендант хочет прежде всего освободиться от великого множества больных и раненых и от чудовищно разросшегося обоза, с тем чтобы потом разместить в Вердене не столь многочисленный гарнизон. Но камерьер Вагнер, вручивший коменданту письмо нашего герцога, усматривал в мероприятиях, проводимых комендатурой, нечто куда более серьезное. Чем бы, однако, все это ни обернулось в конечном счете, пока что приходилось подчиниться неизбежному; а посему мы спокойно взялись за опустошение горшка, ухитрившись изготовить из его содержимого несколько блюд под разными соусами и гарнирами, как вдруг объявился второй ординарец с приказанием незамедлительно выехать из Вердена в три часа утра, раньше, чем даже развиднеется. Камерьер Вагнер, видимо, хорошо знакомый с письмом нашего государя, в этом увидел верный симптом передачи крепости французам. Здесь мы невольно вспомнили о красивых нарядных девушках, преподносивших цветы и фрукты прусскому королю, и о грозном пророчестве сурового подростка. В первый раз за всю кампанию мы сполна отдали себе отчет, к каким прискорбным последствиям привело предпринятое нами злосчастное вторжение во Францию.
Хотя я и обрел немало хороших друзей, достойных всяческого уважения, среди господ, принадлежавших к дипломатическому корпусу, я часто не мог воздерживаться от злых эпиграмм, наблюдая за ними на фоне великих событий. Они напоминают мне иных директоров театра, которые, выбрав подходящую пьесу и распределив роли, скромно уходят в сторонку, предоставив отлично выряженной труппе осуществить спектакль в меру своих сил и способностей, полагаясь на счастье и на милость взбалмошной публики.
Барон Бретёй никогда не выходил у меня из головы после пресловутого «дела об ожерелье». Слепая ненависть к кардиналу Рогану подвигла его на неразумную поспешность. Вызванное судебным процессом всеобщее потрясение умов расшатало устои государства, уничтожило уважение к королеве и к высшей знати; все, что всплыло тогда на поверхность, как ни горестно это признать, слишком ярко свидетельствовало о полном упадке и разложении, охватившем двор и первенствующее сословие королевства.
И вот теперь стало почти достоверно известно, что не кто другой, как он, принял участие в составлении условий перемирия, в силу которого мы обязались покинуть пределы Франции. Если что отчасти оправдывало нашу ретираду, то именно те существенные уступки, которые были приняты противной стороной. Нам было обещано освобождение короля, королевы и всей королевской семьи, а также удовлетворение ряда других наших пожеланий. Мы тревожно спрашивали себя, как согласуются эти дипломатические заверения с прямо противоположными им фактами, сведения о которых до нас доходили; одно сомнение порождало другие.
Комнаты, нами занятые, были обставлены изящной мебелью. Особенно привлек мое внимание стенной шкаф, за застекленными дверцами которого я обнаружил множество сброшюрованных тетрадок, одинаково обрезанных в четвертую долю листа. Заглянув в них, я с изумлением установил, что домовладелец был одним из нотаблей, созванных в 1787 году; брошюры заключали в себе печатный текст инструкции, которой должны были руководствоваться нотабли. Умеренность требований, сдержанный тон их изложения резко контрастировали с воцарившимся агрессивным языком нынешних прокламаций, призывающих к дерзкому и беспощадному насилию. Я читал эти документы не без растроганности и взял с собою несколько экземпляров на память о прекрасном начале назревавших великих событий.
11 октября.
Мы не спали всю ночь и ровно в три были готовы усесться в нашу карету, уже запряженную и стоявшую перед распахнутыми воротами, как вдруг столкнулись с новым препятствием: лазаретные повозки с ранеными двигались потоком по заболоченным, вконец разъезженным улицам города, по краям которых были по-прежнему сложены булыжники разобранной мостовой. Мы стояли в ожидании возможности включиться в сплошную колонну повозок. Тут протиснулся к воротам и наш хозяин, кавалер ордена св. Людовика, хмурый, ни с кем не здоровающийся. С чего это он поднялся в такую рань? Но вскоре наше недоумение сменилось чувством жалости: с ним вместе вышел из дома и его слуга с небольшим узелком на палочке; стало слишком ясно, что он, всего лишь с месяц пробыв в своей городской усадьбе, должен снова ее покинуть, наравне с нами, бывшими завоевателями Вердена.
Привлекло мое внимание еще и то, что в нашу карету были впряжены лошади, несравненно лучше прежних, обессиленных и ни на что уже не годных. Их выменяли на кофе и сахар, а новых, более резвых, реквизировали. Здесь чувствовалась рука ловкого Лизёра. Если мы все же тронулись с места, то только благодаря его расторопности. Вскочив в случайный разрыв монолитной колонны, он так долго отчитывал замешкавшегося ездового, пока мы не заполнили образовавшийся пробел нашей шестерней и откуда-то им раздобытым вторым экипажем, запряженным четырьмя лошадьми.