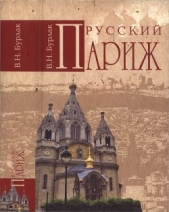Русский в Париже 1814 года

Русский в Париже 1814 года читать книгу онлайн
«Громадный Париж со своими предместьями уже был охвачен союзными войсками от впадения Марны в Сену и опять до Сены при Пасси. Перемирие было заключено; громы сражения умолкли на левом фланге: высоты Бельвиля, Менильмонтана и Монлуи, занятые союзниками и уставленные пушками, грозили разрушением столице Франции; войска, их защищавшие, начали уже отступление, – но еще битва кипела по другую сторону канала д'Урк и на Монмартре, куда не достигло еще известие о перемирии…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Если б Дюбуа был помоложе, – сказал Денон, обратись к графине, – право, я бы подумал, что он влюблен, однако, он говорит правду: со всею моею любовью к художествам и я скажу, что творения великих писателей принадлежат всем векам и всем людям, тогда как живопись и ваяние – вы видите сами, – прибавил он со вздохом, – каждую минуту могут принадлежать сильнейшему; да и самое существование этого музея, по правде сказать, есть разительный тому пример. Горация, и Виргилия никто у меня не вырвет из памяти, тогда как, несмотря на настоящую неприкосновенность этого собрания, какое-то предчувствие говорит, что я должен буду расставаться с Рафаэлем и Праксителем, а это для меня то же, что проститься с жизнию.
– Пойдемте с нами, Дюбуа, – сказала графиня, – Денон обвиняет вас, а мне кажется, что он влюблен также в свои картины. Вы смотрите на живопись особенными глазами, и потому приятно будет услышать несколько различных мнений о том же предмете. Начнемте с французской галереи.
Дюбуа, положив кисть, пошел вместе с графинею и, рассказывая достоинства различных знаменитых художников, остановился пред коллекциею Пусееня.
– По-моему, – говорил он, – мы, французы, не имеем своей школы; то, что у нас называлось старою школою, есть подражание итальянской: посмотрите, как Пуссень [55] мертв колоритом и, несмотря на плодовитость, он имеет более учености, нежели воображения; Ле-Сюер [56], прозванный французским Рафаэлем, холоден как лед; я не хочу говорить о манерном Менгсе [57] и Ванло [58]. Новая же школа наша недостаточна – и в отношении к живописи то же, что барельеф в сравнении со статуею. Из французов один только Вернет был истинен, из итальянцев один Рафаэль высок, чист и неподражаем. Кисть живописца должна быть также благонамеренна, как и перо публичного писателя. Обязанности того и другого состоят в пробуждении благородных чувствований, и горе тому, кто уклонится с дороги истины и добродетели, чтобы ввести в заблуждение другого. Тицианы и Веронезы, несмотря на таланты свои, не поняли великого призвания художества; их произведения дышат роскошью и негою и не могут внушить того чистого энтузиазма, какой возносит человека выше человечества, когда он смотрит на творения Рафаэля.
– Графиня, – сказал веселый Денон, – вам угодно было вызвать нас на турнир с Дюбуа. Он бросил мне перчатку; перед судом красоты буду с ним биться до последней капли крови, до последнего вздоха – и значит, я посвящаю это вам. Во-первых, мой друг Дюбуа, с которым мы давно знакомы и давно спорим, любит итальянцев более, нежели должно патриоту. Как можно сказать, что у нас нет школы? Один Пуссень, этот поэт живописцев, составляет целую школу: какое богатство и разнообразие воображения! какой неисчерпаемый источник мыслей! какое поприще для науки!
– Я знаю, почему вы пристрастны к Пуссеню, – сказал, смеючись, Дюбуа. – Никто более его не может возвысить искусство гравера, потому что он в эстампах лучше, нежели в картинах, а вы – гравер. По-моему, Сальватор Роза [59] в ряду живописцев стоит наравне с Пуссенем.
– C'est un blasphème! [60] – воскликнул с комическим жаром Денон. – Как! этот человек, который бесился всю жизнь за то, что его почитали живописцем de genre [61] и который остался им навсегда, несмотря на четыре или пять исторических картин, написанных перед смертью, этот человек может быть сравнен с Пуссенем? Вспомните, что этот был творец также исторического пейзажа, – продолжал Денон, обращаясь к двум картинам, – и что этот потоп, и Диоген, разбивающий чашку, превосходят все, что написал Сальватор в роде пейзажей в отношении к мысли и даже колорита. Что же до композиции, до важности и до философии в истории, Пуссень, может быть, первый из живописцев.
Дюбуа подал ему руку.
– Если я не убежден, – сказал он, – то побежден вашею патриотическою горячностию к земляку живописцу; зато он, несмотря на ваше предчувствие, один останется верен своему покровителю – его, верно, не возьмут от вас!
– Графиня, – сказал Денон, – вы видите, что он посреди честного бою употребляет кинжал. Как судья, обезоружьте взором вашим этого человека, который преступает правила поединка употребляя против меня оружие насмешки, а против моего Пуссеня выпускает Сальватора со всеми его бандитами.
В таких спорах и рассуждениях общество обошло верхние картинные галереи, спустилось вниз, где стояли статуи и, когда все было осмотрено, когда все поблагодарили и простились с Деноном, он взял за руку Дюбуа и сказал ему потихоньку:
– Мое воображение так настроено напрасным страхом, что, несмотря на уверение союзных государей, все еще не верится неприкосновенности музея. Может, это в самом деле предчувствие. С тех пор, как пал великий человек, для меня все кажется возможным. Велика наша потеря, Дюбуа! Для меня нет его дружбы! – для тебя предмета жаркой любви твоей!
– Подождем, – сказал еще тише Дюбуа, – можно надеяться, что глупости Бурбонов сделают эту потерю не вовсе невозвратимою!..
Денон взглянул на него, ожидая объяснения, но тот не продолжал более.
Глава VII
Объяснение графини Эмилии в музее не изменило нисколько обращения между ею и Глинским. Ей казалось, что она обеспечила себя довольно, сделала все, что должно, сказав ему, как понимает светские учтивости, других же чувств она не предполагала в молодом человеке. Итак, в полной безопасности графиня, однажды предложив дружбу свою, не могла не отдаться приятному впечатлению этого благородного чувствования; большая откровенность придала новую прелесть их обращению; Глинский был вне себя от радости: слово друг и друг прелестной женщины, возвысило его выше всех людей в собственных глазах.
Последовавший вечер и утро были для него продолжительным восторгом.
Проходя чрез кабинет маркиза после завтрака, за которым графиня показала ему новые знаки своего расположения, он остановился против ее портрета, перебирая в уме своем все счастливые минуты с тех пор, как узнал ее. В это мгновение часы ударили двенадцать и напомнили ему намерение навестить раненого гренадера, которого он полюбил всей душой. Больной начинал уже выздоравливать, садился на своей постеле и временно, с позволения лекаря, делал несколько шагов по комнате. Глинскому не хотелось, возвратив только жизнь, оставить без помощи человека, для коего служба была уже невозможна и способы к существованию ничтожны, потому что он мог иметь только пенсию за крест Почетного легиона. Независимое состояние Глинского дало бы ему способы осчастливить этого человека, но здесь, вдалеке от родины, денежные обстоятельства самого Глинского часто были затруднительны. Не менее того, он положил непременно собраться со всею возможностью и не оставить без помощи этого человека, как скоро ему здоровье позволит располагать своею будущностию.
Эти рассуждения следовали одно за другим, перемешиваясь с мыслями о графине, пред портретом коей он остановился. – «Как часто, – думал он, – мы бываем добры оттого только, что любим. Не знаю, пожелал ли бы я сделать больше того, что внушало мне первое движение, если бы имя графини не отозвалось в моем сердце устами этого человека. Если бы я не знал ее, я бы вел рассеянную жизнь – может, забыл бы его. Он думает, что я великодушен, – а я только люблю Эмилию, и вот моя добродетель. Нет, я не хочу присвоивать того, что принадлежит ей одной! я знаю, как это сделать, знаю, как сказать, знаю, как указать ему настоящего, а, может быть, и будущего благодетеля. Я скоро оставлю Францию: до того времени он не выздоровеет и не изобличит меня, а притом он знает только мое подложное имя».