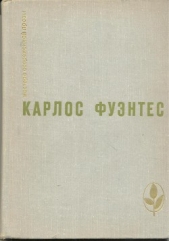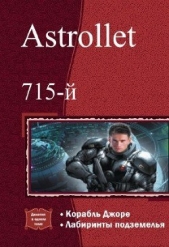Смерть Артемио Круса
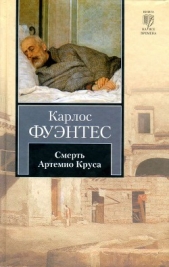
Смерть Артемио Круса читать книгу онлайн
Одно из величайших литературных произведений XX века. Один из самых гениальных, многослойных, многоуровневых романов в истории щедрой талантами латиноамериканской прозы. Сколько лицу революции? И правда ли, что больше всего повезло тем ее героям, которые успели вовремя погибнуть? Артемио Крус, соратник Панчо Вильи, умирает, овеянный славой — и забытый. И вместе с ним умирает и эпоха, и душа этой эпохи… Нет больше героев «времени перемен». И нет места в современном, спокойном мире тем, кто не успел красиво умереть на полях сражений…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И тем не менее Он должен был молчать: первое объяснение повлекло бы за собой следующее, и все неизбежно привело бы к одному дню и к одному месту, к одной тюремной камере, к одной октябрьской ночи. Чтобы избежать возвращения к прошлому, надо заставить ее привязаться без слов; плоть и ласки должны сказать все без слов. Но тут же его одолевало сомнение иного рода. Поймет ли эта девочка то, что Он хотел сказать ей, заключая в объятия? Сумеет ли она оценить истинный смысл ласк? Не слишком ли горяч, подражателен, механичен ее ответный чувственный порыв? Не терялась ли в этом инстинктивном самопроявлении женщины надежда на истинное взаимопонимание?
«…А я так отвечала ему из робости. Или из желания поверить, что эта любовь в темноте была действительно чем-то особенным».
Он не отваживался спрашивать, говорить. Верил, что все решится само собой — сыграют роль привычка, неизбежность, да и необходимость. На что ей еще надеяться? Ее единственное будущее — быть рядом с ним. Может быть, этот простой и очевидный факт заставит ее в конце концов забыть то, первоначальное. С такой мыслью, скорее мечтой, Он засыпал возле нее.
«Господи, прости меня, грешную, за то, что пустая страсть заставила меня забыть причины моей неприязни… Боже мой, как могу я покоряться его воле, подчиняться этим блестящим зеленым глазам? Где моя собственная воля, когда его свирепые нежные руки обнимают меня и Он не просит ни позволения, ни прощения за… зато, что я могла швырнуть ему в лицо…Ах, нет слов; все проходит прежде, чем успеваешь найти слова…»
(«- Какая тихая ночь, Каталина… Боишься проронить слово? Нарушить тишину?
— Нет… Помолчи.
— Ты никогда ничего не просишь. Мне было бы приятно иногда…
— Не надо говорить. Ты знаешь, есть вещи…
— Да. Не стоит говорить. Ты мне нравишься, так нравишься… Я никогда не думал…»)
И она приходила. Позволяла себя любить. Но, просыпаясь, снова все вспоминала и противопоставляла силе мужчины свою молчаливую неприязнь.
«Ничего не скажу тебе. Ты побеждаешь меня ночью. Я тебя — днем. Не скажу, что никогда не верила той твоей сказке. Отцу помогали скрывать унижение его барский вид и воспитание, но я буду мстить за нас обоих — тайно, всю жизнь».
Она вставала с кровати, заплетая в косу растрепавшиеся волосы, не глядя на разбросанную постель. Зажигала свечку и молча молилась, а в дневные часы молча давала понять, что она не побеждена, хотя ночь за ночью, вторая беременность, большой живот утверждали иное. И только в моменты большого душевного одиночества, когда ни злоба, вызываемая мыслями о прошлом, ни стыд, рождаемый плотским наслаждением, не занимали ее мысли, она честно признавалась себе, что Он, его жизнь, его внутренняя сила
«…вовлекают в удивительную авантюру, которая внушает страх…»
Он будто звал к безрассудству, к тому, чтобы с головой окунуться в неизведанное, идти по пути, отнюдь не освященному обычаем. Все затевалось и все создавалось заново — Адам без отца, Моисей без Заветов. Не такой была жизнь, не таким был мир, устроенный доном Гамалиэлем…
«Кто Он? Как стал таким? Нет, у меня не хватает смелости идти с ним. Я должна сдерживать себя. И не должна плакать, вспоминая детство. Какая тоска».
Она сравнивала счастливые дни в доме отца с этим непостижимым калейдоскопом жестких и алчных лиц, потерянных и созданных из ничего капиталов, утраченных поместий, завышенных процентов, растоптанных репутаций.
(«- Он разорил нас. Мы не можем продолжать знакомство; ты с ним заодно, ты знала, как обирал нас этот человек».)
Да, верно. Этот человек.
«Этот человек, который мне безнадежно нравится и который, кажется, меня действительно любит; человек, которому мне нечего сказать, который заставляет меня испытывать то стыд, то удовольствие… То стыд! самый унизительный, то удовольствие, самое, самое…»
Этот человек пришел погубить всех: Он уже погубил их семью, и она, продавая себя, спасала его тело, но не душу. Часами сидела Каталина у раскрытого окна, выходившего в поле, погруженная в созерцание долины, затененной эвкалиптами. Покачивая время от времени колыбель, ожидая рождения второго ребенка, она старалась вообразить свое будущее с этим проходимцем. Он прокладывал себе дорогу в свет, как проложил ее к телу своей жены, шутя расправляясь с щепетильностью, легко ломая правила приличия. Подсаживался к столу всякого сброда — своих десятников, пеонов с горящими глазами, людей с дурными манерами. Покончил с иерархией, установленной доном Гамалиэлем. Превратил дом в скотный двор, где батраки говорили о вещах непонятных, скучных и пошлых. Он завоевал доверие соседей, и слух его стали ласкать льстивые речи. Ему, мол, надо отправляться в Мехико на заседания Конгресса. Они так полагают. Кому же, как не ему, защищать их подлинные интересы? Если бы Он с супругой изволил проехаться в воскресенье по деревням, то сам убедился бы, как их почитают и как хотят видеть его своим депутатом.
Вентура еще раз склонил голову и надел шляпу. Шарабан был подан пеоном к самой изгороди, и Он, повернувшись к индейцу спиной, зашагал к качалке, где сидела его беременная жена.
«Или мой долг до конца питать к нему свою неприязнь?»
Он протянул руку, и она оперлась на его локоть. Упавшие с деревьев плоды техокоте лопались под ногами, собаки лаяли и прыгали вокруг шарабана, ветви сливовых деревьев стряхивали росу. Помогая жене подняться в шарабан, Он невольно сжал ее руку и улыбнулся.
— Не знаю, может, я тебя обидел чем-нибудь. Если так — извини.
Мгновение, другое. Уловить хотя бы тень растерянности на ее лице. Этого было бы достаточно. Одно легкое движение, даже не ласковое, выдало бы ее слабость, скрытую нежность, желание найти опору.
«Если бы я только могла решиться, если бы могла».
Его рука снова скользнула по ее руке и легонько сжала кисть — без всякого волнения. Он взял вожжи, она села рядом и раскрыла голубой зонтик, не взглянув на мужа.
— Берегите мальчика.
«Я разделила свою жизнь на ночь и день, словно подчиняясь сразу двум чувствам. Господи, почему я не могу подчиниться одному из них?»
Он, не отрываясь, смотрел на восток. Вдоль дороги тянулись маисовые поля, испещренные канавками, которые крестьяне прорыли к молодым росткам, сидевшим в земляных кучках. Вдали парили ястребы. Тянулись ввысь зеленые скипетры магеев, стучали мачете, делая на стволах зарубки — наступала пора сбора сока. Только ястреб с высоты мог обозреть обводненные плодородные участки, окружавшие усадьбу нового хозяина — родовые земли Берналя, Лабастиды и Писарро.
«Да. Он меня любит, наверное, любит».
Серебряная слюна ручейков скоро иссякла, и необычный пейзаж уступил место обычному — известковой равнине, утыканной магеями. Когда шарабан проезжал мимо, работники опускали мачете и мотыги, погонщики подстегивали ослов; тучи пыли поднимались над безбрежным суходолом. Впереди черным саранчовым роем ползла религиозная процессия, которую шарабан вскоре догнал.
«Мне надо было бы во всем ему уступать, только чтобы Он любил меня. Разве не нравится мне его страсть? Разве не нравятся его слова любви, его дерзость, его радость удовлетворения? Даже такую, даже беременную Он меня не оставляет. Да, да, всё так…»
Медленное шествие богомольцев их задержало. Шли дети в белых, отороченных золотом накидках; у некоторых на черных головках колыхались короны из проволоки и серебряной бумаги. Детей вели за руки закутанные в шали женщины с багровым румянцем на скулах и остекленевшим взором, осенявшие себя крестным знамением и шептавшие древние литании. Одни богомольцы ползли на коленях, волоча голые ноги, перебирая четки. Другие поддерживали больного с изъязвленными ногами, шедшего исполнить обет; третьи били плетьми грешника, который с довольным видом подставлял под удары нагую спину и поясницу, обмотанную колючими стеблями. Короны с шипами ранили смуглые лбы, ладанки из нопаля [33] царапали обнаженные груди. Причитания на индейских наречиях тонули в дорожной пыли, которую кропили кровью и месили неторопливые ноги, покрытые коростой и мозолями, обутые в грязь. Шарабан застрял.