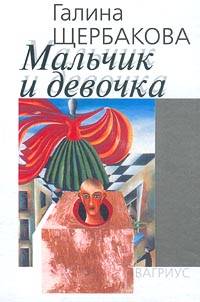Детство хозяина

Детство хозяина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако он никак не мог остановиться, и ему все время казалось, что он играет. Он хотел быть похожим на господина Буфардье, который был таким некрасивым и таким серьезным. Приходя на обед, господин Буфардье склонялся к маминой руке и говорил: «Мое почтение, милостивая государыня», а Люсьен, стоя посреди гостиной, смотрел на него с восхищением. Но все, что происходило с Люсьеном, не было серьезным. Когда он падал и набивал себе шишку, то он переставал порой плакать и спрашивал себя: «Это правда, что мне бобо?» И тогда ему делалось еще печальнее, и он принимался плакать еще горше. Когда же он поцеловал маме руку и сказал: «Мое почтение, милостивая государыня», мама, взъерошив ему волосы, сказала: «Нехорошо, мой мышонок, ты не должен смеяться над взрослыми», и он совсем растерялся. Почувствовать свою значительность ему удавалось лишь в первую и третью пятницы месяца. В эти дни в гости к маме приходило множество дам, и среди них двое или трое всегда были в трауре; Люсьену нравились дамы в трауре, особенно те, у кого были большие ноги. Ему вообще было приятно со взрослыми, потому что они были такими солидными, и даже не хотелось думать, что в постели они утешаются тем же, чем занимаются маленькие мальчики; ведь они носили на себе столько темных одеяний, что нельзя было даже вообразить, есть ли на них нижнее белье. Собравшись вместе, они кушают и беседуют, и даже смех у них какой-то торжественный; это красиво, как месса. Они обращались с Люсьеном как со взрослым. Госпожа Коффен сажала Люсьена на колени и щупала его икры, заявляя: «Я в жизни не видела такого хорошенького ребенка». Потом она интересовалась, что он любит, целовала его и спрашивала, кем он хочет быть. Он либо отвечал, что станет великим полководцем, как Жанна д'Арк, и отберет у немцев Эльзас-Лотарингию, либо говорил, что хочет стать миссионером. И, говоря это, верил в свои слова. Госпожа Бесс была крупной и сильной женщиной с маленькими усиками. Она опрокинула Люсьена на спину и стала щекотать его, приговаривая: «Ах ты, куколка моя». Люсьен был в восторге, весело смеялся и корчился от щекотки; он представлял себе, что он куколка, прелестная куколка для взрослых, и ему хотелось, чтобы госпожа Бесс раздевала его, мыла и укладывала баиньки в маленькую колыбельку резинового пупсика. То и дело госпожа Бесс повторяла: «Неужели моя куколка умеет говорить?» – и при этом слегка нажимала ему на животик. И тогда Люсьен делал вид, что он заводная кукла, и сдавленным голосом произносил: «Квак», и они смеялись.
Господин кюре, который по субботам являлся к ним на завтрак, спросил его, любит ли он маму. Люсьен обожал свою красавицу маму и своего папу, который был таким сильным и добрым. Он ответил: «Да», глядя господину кюре прямо в глаза с таким дерзким видом, что рассмешил всех. У господина кюре голова была похожа на ягоду малины – красная и пупырчатая, с волоском на каждой пупырочке. Он сказал Люсьену, что это похвально и следует всегда любить маму, а затем спросил, кого он любит больше, маму или Господа Бога. Люсьен не смог быстро найти ответ; он стал трясти своими кудряшками и топать ногой, крича: «Бум, тарарабум»; взрослые снова продолжали беседу, словно его тут и не было. Он побежал в сад и выскользнул через калитку на улицу, он захватил с собой свою камышовую тросточку. Конечно, Люсьен не должен был выходить из сада, это запрещалось; обычно Люсьен вел себя очень послушно, но сегодня ему расхотелось повиноваться. Он недоверчиво посмотрел на густые заросли крапивы; было ясно, что заходить в это место нельзя: стена была грязной, крапива – колючим и вредным растением; какая-то собака наделала прямо под кустами; пахло растительностью, собачьими испражнениями и теплым вином. Люсьен хлестал крапиву своей тросточкой, выкрикивая: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Он видел порубленные стебли крапивы, которые жалобно свисали, истекая белым соком; беловатые, пушистые цветы крапивы рассыпались, изрубленные на кусочки, а он слышал тоненький голосочек, кричащий: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Громко жужжа, кружила большая синяя муха – навозная муха, которую Люсьен боялся, и запретный запах, сильный, гнилой и густой, проникал ему в нос. Он повторил: «Я люблю мою маму», но свой голос показался ему чужим, ему вдруг стало очень страшно, он бросился бежать и, не оглядываясь, примчался в гостиную. В тот день Люсьен понял, что не любит маму. Вины за собой он не чувствовал, но стал относиться к ней с удвоенным вниманием, решив, что всю жизнь следует выказывать любовь к родителям, иначе ты будешь попросту гадким мальчишкой. Госпожа Флерье находила, что Люсьен становится все более ласковым. Этим летом как раз началась война, папа отправился сражаться, а опечаленной маме было приятно чувствовать, что Люсьен так пылко о ней заботится; после полудня, когда она отдыхала в саду в шезлонге – она очень страдала, – он приносил подушку и подкладывал ей под голову или укрывал ей ноги пледом, она, смеясь, отбивалась: «Но мне будет слишком жарко, мой маленький мужчина! О, как ты любезен!» Он страстно целовал ее и повторял, задыхаясь: «Мама моя!», потом садился под каштаном. Он сказал «каштан» и ждал. Но ничего не произошло. Мама лежала в шезлонге у веранды, такая маленькая на дне этой тяжелой, удушливой тишины. Пахло теплой травой, и можно было поиграть в следопыта в джунглях; но Люсьен уже утратил вкус к игре. Воздух дрожал над красным гребнем стены, а солнце заливало обжигающими пятнами землю и руки Люсьена. «Каштан!» Это было поразительно: когда Люсьен говорил маме: «Моя красивая мама», она улыбалась, когда он называл Жермену «ружьем», та плакала и шла жаловаться маме. Но когда он произносил слово «каштан», ничего не происходило. Он процедил сквозь зубы: «Мерзкое дерево, противный каштан! Я тебе покажу, подожди только!» – и бил его ногой. Но дерево стояло спокойно-спокойно, словно было деревянное. Вечером за ужином Люсьен сказал маме: «Ты знаешь, мама, деревья ведь деревянные» – и состроил при этом удивленную мину, которая так маме нравилась. Но госпожа Флерье не получила письма с дневной почтой. Она сухо заметила: «Не говори глупостей». Люсьен превратился в маленького разрушителя. Он переломал все свои игрушки, чтобы выяснить, как они устроены, старой папиной бритвой изрезал ручки одного из кресел, разбил танагрскую статуэтку в гостиной, чтобы узнать, полая ли она, или у нее внутри что-то есть; на прогулках он сбивал своей тросточкой растения и цветы; всякий раз он переживал глубокое разочарование: вещи были глупые, они не жили по-настоящему. Мама часто спрашивала его, показывая на цветок или дерево: «Как оно называется?» Но, качая головой, Люсьен отвечал: «Никак не называется, у них нет имен». На все это не стоило труда обращать внимания. Куда забавнее было отрывать лапки у кузнечика, потому что тот вертится при этом волчком под вашими пальцами, а когда ему сжимали живот, оттуда вылезал какой-то желтый крем. Но кузнечики все-таки молчали. Люсьену же очень хотелось помучить одного из тех животных, которые кричат, если им делают больно, курицу например, но даже подойти к ним он боялся. Господин Флерье возвратился домой в марте, потому что он был директором, и генерал сказал ему, что он будет больше полезен во главе своей фабрики, чем простой солдат в окопах. Он сказал, что Люсьен сильно изменился, и заметил, что он не узнает своего маленького мужчину. Люсьен погрузился в какую-то сонливость; на вопросы отвечал вяло и постоянно ковырял пальцем в носу, а то, подышав на руку, принимался ее обнюхивать; и все время его приходилось упрашивать сходить по нужде. Теперь он уже самостоятельно ходил в одно место; он лишь оставлял дверь полуоткрытой, и время от времени мама или Жермена заходили его подбодрить. Он часами сидел на толчке и однажды так утомился, что даже уснул. Врач сказал, что он очень быстро растет, и прописал укрепляющее. Мама хотела научить Люсьена новым играм, но Люсьен счел, что наигрался досыта, что все игры в конце концов одинаковы – одни и те же. Он часто дулся – это тоже было игрой, но более забавной. Можно было огорчать маму, казаться печальным и злым, корчить из себя глухого, не раскрывая рта и смотря затуманенными глазами; а в себе он чувствовал тепло и нежность, как будто он лежит вечером, укрывшись одеялом с головой, и вдыхает свой собственный запах; он был один на всем свете. Люсьен уже не мог обходиться без своих капризов, и, когда папа насмешливым тоном говорил: «Опять дуешься», Люсьен, рыдая, начинал кататься по полу. Он довольно часто заходил в гостиную, когда мама принимала гостей, но, с тех пор как ему обрезали его локоны, взрослые меньше им интересовались или же читали ему мораль, рассказывая назидательные истории. Когда в Фероль, спасаясь от бомбардировок, приехал его кузен Рири вместе с тетей Бертой, своей красивой мамой, Люсьен очень обрадовался и попытался научить его играть. Но Рири был слишком поглощен своей ненавистью к бошам и вообще был еще ребенком, хотя и был на шесть месяцев старше Люсьена; лицо его усеивали веснушки, и он был туповат. И однако именно ему Люсьен признался, что он лунатик. Отдельные люди встают ночью, разговаривают и ходят спящими. Люсьен прочел это в «Юном путешественнике» и стал думать, что должен быть настоящий Люсьен, который по-настоящему ходит, разговаривает и любит своих родителей по ночам, но, едва наступает утро, он все забывает и вновь притворяется Люсьеном. Сперва Люсьен и сам этому не верил, но однажды они подошли вдвоем к крапиве, и Рири, показав Люсьену свою пиписку, сказал: «Смотри, какая большая, я большой мальчик. Когда она станет совсем большой, я стану мужчиной и пойду в траншеи воевать с бошами». Рири показался Люсьену смешным, и он громко рассмеялся. «Покажи твою», – сказал Рири. Они сравнили, и у Люсьена она оказалась меньше, но Рири схитрил: он тянул свою, чтобы ее удлинить. «У меня больше», – сказал Рири. «Да, но зато я лунатик», – ответил Люсьен спокойно. Рири не знал, что такое лунатик, и Люсьену пришлось ему объяснить. Когда он закончил, он подумал: «Значит, правда, что я лунатик», и его охватило страшное желание заплакать. Так как они спали в одной кровати, они уговорились, что в эту ночь Рири не заснет и будет хорошенько наблюдать за Люсьеном, когда тот встанет, и запоминать все, что тот скажет. «Ты разбудишь меня через несколько минут, – сказал Люсьен, – чтобы проверить, вспомню ли все, что делал». Вечером Люсьен, который не мог заснуть, услышал вдруг громкое сопенье, и ему пришлось разбудить Рири. «Занзибар!» – сказал Рири. «Проснись, Рири, ты должен следить за мной, когда я встану». – «Дай мне поспать», – сонным голосом попросил Рири. Люсьен стал его трясти и щипать под рубашкой. Рири задрыгал ногами, проснулся и лежал с открытыми глазами и глупой улыбкой. Люсьен вспомнил о велосипеде, который обещал купить ему папа, услышал свисток паровоза, а затем вдруг вошла служанка и отдернула занавески – было восемь часов утра. Люсьен так никогда и не узнал, что же он делал ночью. Только Господь знал это, потому что Господь все видит. Люсьен стал на колени на молитвенную скамеечку и попытался заставить себя быть умницей, чтобы по приходе с мессы мама похвалила его, но он ненавидел Господа: Господь знал о Люсьене больше, чем сам Люсьен. Он знал, что Люсьен не любит ни маму, ни папу и что он притворяется пай-мальчиком, а вечером в постели трогает свою пиписку. К счастью, Господь не мог все это помнить, потому что на свете очень много маленьких мальчиков. Когда же Люсьен ударял себя в лоб и говорил: «Хлеб», Господь в ту же минуту забывал все, что видел. Люсьен попробовал убедить Господа, что любит свою маму. Время от времени он повторял про себя: «Как я люблю мою дорогую мамочку!» Но в его душе всегда оставался маленький уголочек, который не был вполне убежден в этом, и Господь конечно же видел это. И в таком случае победителем выходил Он. Но иногда Люсьену удавалось полностью слиться с тем, что он говорил. Он произносил быстро-быстро, четко выговаривая: «О, как я люблю мою маму!», перед ним возникало лицо мамы, он чувствовал себя совсем растроганным и смутно, совсем смутно думал, что Господь смотрит на него, а потом об этом уже вовсе нужно было не думать, ему становилось приторно-сладко от нежности и появлялись эти слова, которые так и звенели в его ушах: мама, мама, МАМА. Конечно, длилось это лишь одно мгновенье, это было почти так же, как если бы Люсьен пытался заставить стоять стул на двух ножках. Но если в этот миг Люсьен произносил слово «пакота», то Господь оказывался побежденным. Он видел только Добро, и все, что Он успел увидеть, навсегда запечатлевалось в Его памяти. Но Люсьена скоро утомила эта игра, потому что она требовала слишком больших усилий и в итоге никогда нельзя было знать, выиграл Господь или проиграл. Господь больше не интересовал Люсьена. Во время первого причастия господин кюре сказал, что Люсьен самый умный и набожный мальчик из всех, кто изучал у него катехизис. Люсьен быстро все схватывал и имел хорошую память, но голова его была наполнена каким-то туманом.