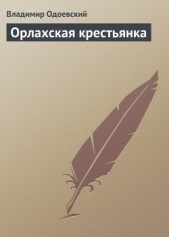Мертвый осел и гильотинированная женщина

Мертвый осел и гильотинированная женщина читать книгу онлайн
Сюжет романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) французского писателя Жюля Жанена (1804—1874) составляет трагическая любовная история: юная героиня, которая впервые появляется на страницах книги невинной красавицей, весело скачущей на грациозном ослике по весенним лужайкам, постепенно развращается, опускается на городское дно, совершает преступление и умирает на гильотине; ее осел находит смерть на живодерне, а влюбленный герой, пережив тяжелую душевную драму, утрачивает все жизненные иллюзии.
Роман был необычайно популярен в России пушкинской поры. Публикуется в современном переводе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все же она ужасно рассердилась, когда во всех этих россказнях, во всех раскатах стиля, сперва ей понравившегося, но под конец ее утомившего, она не нашла нравственной идеи — ни единого слова, которое выходило бы за пределы реальных фактов; среди столь доскональных описаний — ничего, кроме форм и красок, всего того, что составляет мир действительности, ничего от мира иного, ничего из области души, — в какой-то миг Критика готова была с презрением отвернуться от моей книги.
Поскольку это и был самый чувствительный для меня упрек и самый большой недостаток, за который я втайне краснел, я пал в ноги своему судии и, трепеща, стал объяснять, почему порок моей книги не есть порок моего сердца, а целиком принадлежит тому роду литературы, в коем я решился работать; объяснил, что далеко превысил бы свои намерения, если бы говорил об иных вещах, нежели те, что касаются наших чувств, и сослался по этому поводу на описательную поэзию, каковой она является со времен аббата Делиля [7] вплоть до наших дней; и мне удалось втолковать моему судии, что в этой сухости следует винить тот род чувствований, коим я предался в минуту отчаяния, с тем чтобы более к ним не возвращаться, — можете быть уверены.
С этой минуты беседа наша сделалась более дружественною и доверительной. Ведь я не был ни главарем секты, ни литературным сеидом; [8] я был один из тех простых писателей, что идут куда могут, не создают школу, не порождают раскол, публика занимается ими, когда у нее есть время, у них же самих имеются иные дела, чем добиваться известности, на которую, впрочем, им достает благоразумия не претендовать.
Итак, у нас с Критикой завязался серьезный спор о том, что называют правдой в искусстве. Я доказывал ей, что, согласно новой системе взглядов, старик Гомер достигнуть этой правды не мог, уже по той причине, что был слеп. Что действительно (я все еще говорю от лица новой системы), прежде чем быть правдивым, надо видеть телесными и духовными очами, а увидев, выразить то, что видел, в словах, только и всего — в этом и состоит искусство; что Мильтон [9] лгал, когда спускал с цепи свою несметную свору ангелов и дьяволов; что Тассо [10] лгал, когда воздвигал в воздухе элегантный дворец Армиды; что вся эпическая поэзия в совокупности лгала, когда ринулась в невидимый мир, что, наконец, правда была только в «Девственнице» Вольтера и в «Избиении младенцев» [11]. Критика слушала меня с таким видом, словно вела разговор с умалишенным.
И в доказательство я привел историю об отрубленной голове в серале и о том, как великий визирь показал одному французскому художнику, что в обезглавленном теле кровеносные сосуды не расширяются, а суживаются. Следовательно, до встречи с этим ужасным магометанином все художники, изображавшие усекновение главы Иоанна Крестителя, даже сам Пуссен, лгали, рисуя своего мученика!
Отсюда опять-таки следует, что, прежде чем говорить о каком-либо предмете, надо его увидеть своими глазами, пощупать своими руками. Вы ведете речь о смерти — отправляйтесь в анатомический театр; о трупе — извлеките его из могилы; о гложущих этот труп червях — произведите вскрытие. Если же вы скажете, что заключить поэтический мир в тесные границы пяти чувств, уменьшить его настолько, чтобы он весь уместился в ваших ладонях, — значит невероятно обузить этот мир, вам ответят, что против такого неудобства, связанного с правдой, имеется лекарство: описание. А теперь, когда вам запрещено быть слишком дальнозорким и в то же время запрещено пользоваться телескопом, вам остается лупа; вооружившись ею, вы сделаетесь приверженцем бесконечно малого, вы станете поэтом или, что то же самое, анатомом деталей; сузившись, ваши владения по-прежнему пребудут обширными. А как же иначе? Когда-то вы двигались от целого к подробностям, от фасада к карнизам, от общего к частностям; ныне ваш путь изменился. Величественная руина виднеется на вершине этой горы; если вы хотите рассмотреть ее хорошенько, начните с изучения этого маленького обломка — этот камень отвалился от сводчатого оконца, освещавшего старую замковую часовню; часовня примыкает к башенкам, башенки — к оружейной палате… вот вам целый мир, воссозданный по одному обломку; вам остается лишь некоторое время карабкаться таким образом от песчинки к скале, чтобы добраться до того человека в узорах и фестончиках, над которым потешался Депрео́ [12].
Видите, это не столь уж новая новость, и в современной поэзии все восполняется: целое — единством, памятник — его осколком, факты — словом, мысль — описанием, драма — повествованием, поэзия — прозой, воображение — взглядом, мир душевный — миром физическим, бесконечность — конечностью, «Поэтическое искусство» — предисловием, которое нацарапал первый встречный.
Значит, я только воспользовался своим правом новообращенного и новой поэтической хартией, поставив на место значительного ничтожное, и если бы по воле случая даже в этом небытии, где я расположился, мне встретился какой-нибудь ревнивый собственник, который с дерзостью первопришельца сказал бы: «Не заслоняй мне хаос!», как Диоген сказал Александру: «Не заслоняй мне солнце!» [13] — я скромно отвечал бы этому владельцу пустоты, что напрасно он гневается; ибо хаос принадлежит всем, в особенности, когда ничего, кроме хаоса, уже не существует; что он вовсе не первый, кто поселился в этой бесцветной и бесформенной неопределенности; что я мог бы назвать немало других, погрязших здесь до него, и что, наконец, мрак достаточно обширен, чтобы каждый из нас мог построить в этих сумрачных ландах по воздушному дворцу и разместить там, как нам заблагорассудится, палачей, каторжников, ведьм, покойников и прочих симпатичных обитателей, достойных сего нового Эдема. Я, со своей стороны, не проявил бы небрежения при строительстве своего готического замка.
Прежде всего, я выбрал бы просторный участок на вершине горы либо на речном берегу; а когда место было бы найдено, я вырыл бы широкий ров, который со временем заполнился бы зеленою тиной и жидкой грязью; под этим рвом я поместил бы феодальную тюрьму, со стенами, сочащимися влагой и четырехфутовою решеткой, дабы можно было жечь на медленном огне бродягу-иудея; над тюрьмой — большие залы для моих лучников и солдат, где вместо картин висели бы на стенах шлемы, кирасы, набедренники, перчатки, аркебузы с зажженным фитилем, луки с натянутыми звонкими тетивами, везде железо — и окна, открытые всем ветрам.
Затем зала для вассалов, церемониальная зала, увешанная громадными шпалерами, колеблемыми вечерним ветерком и украшенными гигантскими изображениями персонажей Священного писания, — плод медлительного и тяжкого творчества иголки наших прабабушек. Я уже вижу огромные кресла, необъятный очаг, факелы в железных вставках, прикрепленные к стенам сего феодального жилища; рядом с этой залою, столь подходящей для привидений, — другая, вымощенная плитами, предназначенная для пиршеств; стол уставлен мясом и вином, вокруг теснится толпа паладинов, каждый в особой перевязи цветов его дамы; они едят, пьют, хмелеют, спорят, богохульствуют. А тем временем башни вздымаются все выше и выше, тяжелые, смертоносные, прорезанные бойницами, пока, завершив возведение замка, зодчий не обнаружит, что напрасно потратил время на постройку бесполезной громадины, что поступил бы куда разумнее — раз уж ему захотелось Средневековья, — если бы создал Средневековье более дешевое, из картона или глины.
Вообще следует опасаться злых шуток своего воображения, ибо, если воображение руководствуется толикою здравого смысла, оно — дурной зодчий; лишь дайте ему волю, этому домашнему проказнику, и оно перепутает все времена, исказит все места, все сотрет и уравняет безо всякого толку. Оно поместит зубцы на четвертом этаже современного городского дома, окружит рвом пол-арпана салата в огороде нантерского фермера; шаловливое и беспечное, как девчонка, у которой на уме одна только любовь, воображение придаст новенькой часовне форму нагромождения руин, приведет белых призраков в раззолоченную спальню, где все отделано мрамором и красным деревом. Отсюда происходит своего рода литературное донкихотство, в сто раз более смехотворное, чем все, что было нам известно прежде по части анахронизмов.