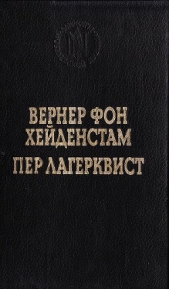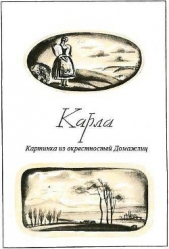Грузно он сполз, за утесы цепляясь,
к низким вратам горы,
за которыми — город мертвых,
ледяной, занесенный снегом.
Тихонько всхлипнув во мраке,
верная дочь, припав к плечу,
сквозь рыдания так говорила:
«Мог ли провидеть ты в час удачи,
что, измаясь, бездомным нищим,
ждать ты станешь у смертных врат?
Ты ешь чужой кусок. Твой древний замок
стал грудой щебня, где гнездятся лисы.
О, понял ты теперь, что значит старость,
когда уже бессилен ливень слез
забвенье принести или прощенье.
Ты радоваться разучился. Холод
земной струится по твоим костям.
Рукой дрожащей не найдя опоры,
ты падаешь под хохот сорванцов
и улыбаешься в ответ. Не им
понять, что ты уже не здесь, не с ними.
О смерти грезишь ты, о ней одной!»
И опустясь устало на сугроб,
уснула. Старец, мантией ветхой
дочери плечи укутав, молвил,
так что никто из живых не слышал:
«Дочь, усни, — один я стану
счет вести ночным часам,
когда толпою мертвые обступят
мой одр, — в сиянье бледном и недвижном
так высоки, почти недостижимы!
Ужели я посмею их теперь
друзьями или родичами звать?
О, где моя былая спесь —
в гордыне прежних дней, бывало,
я с ними рядом смел идти, как равный, —
а днесь смиренно руки им целую!
О заполни меня, нежность ко всякой твари!
Мог ли провидеть я в час метели,
что смертный ветер не убивает,
но отверзает чувства, словно сад
неведомых благоуханных роз?
О суть моя, вот — дивное творенье!
В чем зло и в чем добро — проста отгадка,
как знает сын греха в цепи возмездья,
в чем разница меж золотом и грязью.
Но вот — загадка: на пути надежном
зачем так тянет в пропасть заглянуть?
Я пал. Был осужден брести в сомненьях,
но здесь, у врат, сулящих мне покой,
глядите, выколотые глаза,
как трескается скорлупа загадки
и как из темной жуткой сердцевины
восходит к небу несказанный свет.
Приди, спросивший, — вот тебе ответ!
Приди, скорбящий, — вот утешенье!
Соломинка ласкает пальцы мне,
немые вещи обретают голос,
а голоса людей и глубину, и смысл!
Пусть отдохнет усталый и гонимый,
дай руку, дай дитя мне на колени.
Потом — веди вперед и злых, и добрых,
и возложи мне мантию на плечи,
что мною сброшена была.
Впервые ныне падший царь фиванский
стоит, готовый править и судить».
Так говорил, к утесу прислонясь,
наследник лабдакидов в час рассвета,
когда над кровлями встают дымы.
Бурей сорваны двери. Снегом
залы заносит, где Один,
кровью запятнан,
виной отягчен,
в окруженье асов
встал с престола навстречу року.
Вспыхнет доспех
сполохом серым во мраке,
Тор со стоном
молот сожмет, — но Хёнир,
бывало, Вальгаллы гость нечастый,
ас, трепещущий грохота ратного,
меч не смеющий обнажить из ножен,
скользя ковыляет по льдистым плитам
от стола к дверям и к столу обратно,
в горсть сгребает крохи, убогий
ест и пьет, чем боги гнушаются,
запевает он песнь надтреснутым голосом:
«Турсы едут из Йотунхейма,
злобно оскалясь, на скалы лезут,
вы же, отважные, кровавые асы,
осмеяли, сиятельные, меня простого,
к вашей вящей славе слепившего
с лица своего лицо человека, —
все, кроме Бальдера: кроткий Бальдер
один безмолвствовал, молча сидел он.
Падёте, неправые! Ему же — править
новорожденной землей зеленой.
Вёльва пророчит время мира —
день для потехи, ночь для покоя.
Бальдер, венчанный венком колосьев,
усадит Хёнира одесную престола!
Смеркается, боги! Но бодро Хёнир
выпьет за вас, угасшие асы!»
Один отвечает:
«Вёльве не верь! все жены лживы.
Худо прочел ты молчание Бальдера.
В темных думах бродил он сердцем,
крепкой волей над кротким я властен.
Белый, сидел он и ждал, державный.
Мало же знал ты милосердного
доброго бога, когда не заметил
скорбной складки неумолимой,
чело мрачащей над очами ясными!
Втайне вечером в свете факелов
глядел я на Бальдера. В тот миг впервые
изведал я дрожь, допрежь неведомую,
из рога дрогнувшего пролил я пиво, —
так суров был и грозен он, суровей Одина.
Вовек не забиться в сердце Бальдера
крови иной, кроме крови асов.
Вовек не изведать земле покоя.
По коням ныне, судьбине навстречу!
Седлайте мне Слейпнира — ослепло солнце,
наземь с неба сыплются звезды!»