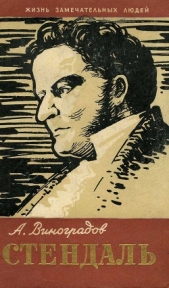Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой)

Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой) читать книгу онлайн
`Казанова, Стендаль, Толстой - писал С. Цвейг, знакомя читателей с этой книгой, - я знаю, сопоставление этих трех имен звучит скорее неожиданно, чем убедительно, и трудно себе представить плоскость, где беспутный, аморальный жулик… Казанова встречается стаким героическим поборником нравственности и совершенным изобразителем, как Толстой. В действительности же… эти три имени символизируют три ступени - одну выше другой… в пределах одной и той же творческой функции: самоизображения`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но история учит нас, что никогда обыкновенному самоизобразителю не удавалось сделать что-нибудь большее, чем просто зарегистрировать пережитое им по воле чистого случая; создать изображение своей души может только опытный проницательный художник, даже среди них лишь немногие вполне справились с этим исключительно ответственным опытом. Ибо, освещенный лишь мерцанием блуждающих огней сомнительных воспоминаний, путь спуска человека с ясной поверхности во тьму его глубин, из живой современности в заросшее прошлое, оказывается самым недоступным из всех путей. Сколько отваги должен он проявить, чтобы пробраться мимо пропасти своего "я" по узкой скользкой тропе - между самообманом и случайной забывчивостью - в абсолютное уединение, где, как на пути Фауста к "матерям", образы пережитого витают лишь как символы своего реального бытия в прошлом, - "неподвижно, безжизненно". Каким героическим терпением и какой уверенностью в себе он должен обладать, чтобы иметь право произнести возвышенные слова: "Vidi cor meum!" - "Я познал собственное сердце!" И как тягостно возвращение из тайников этих глубочайших глубин в противоборствующий мир творчества - от самообозрения к самоизображению! Ничто не может яснее доказать неизмеримую трудность такого предприятия, чем нечастый его успех; хватит пальцев руки, чтобы пересчитать число людей, которым удалось душевно-пластическое самоизображение, облеченное в литературную форму, и даже среди этих относительных удач - сколько пробелов и скачков, сколько искусственных дополнений и заплат! Как раз самое близкое в искусстве оказывается самым трудным, мнимо легкая задача - огромной: любого человека своего времени, и даже всех времен, легче изобразить правдиво, чем свое собственное я.
Но что же от поколения к поколению искушает людей все снова браться за эту, быть может, неразрешимую в совершенстве задачу? Несомненно - стихийное принудительно действующее в человеке побуждение: врожденное стремление к самоувековечению. Брошенный в поток, омраченный тленностью бытия, обреченный на претворение и превращение, влекомый неудержимо летящим временем, молекула среди миллиардов ей подобных, каждый человек невольно (благодаря интуиции бессмертия) стремится запечатлеть свою однократность и неповторяемость в какой-нибудь длительной, способной пережить его форме. Зачатие детей и создание свидетельств о своем существовании является, в сущности, одной и той же изначальной функцией, одним и тем же тождественным стремлением - оставить хотя бы мимолетную зарубку на постоянно разрастающемся стволе человечества. Каждое самоизображение является, таким образом, лишь самой интенсивной формой такого стремления к созданию свидетельства о своем существовании, и даже первые его опыты нуждаются уже в художественной форме, в помощи знаков письма; камни, поставленные над могилой, доски, неуклюжей клинописью прославляющие забытые деяния, резьба на коре деревьев - этим языком рельефов говорят с нами сквозь пустыню тысячелетий первые пытавшиеся создать самоизображение люди. Давно стали непостижимыми деяния и непонятным язык превратившихся в прах поколений; но они неопровержимо доказывают наличие стремления изобразить, сохранить себя и, умирая, оставить живущим поколениям след своего единственного и неповторимого существования. Это еще не осознанное и тусклое стремление к самоувековечению - стихийный повод и начало каждого самоизображения. Лишь позже, спустя сотни и тысячи лет, у более сознательного человечества присоединилась к простому, неосознанному желанию индивидуальная потребность познать свое "я", истолковать себя ради самопознания: короче говоря, стремление к самосозерцанию. Когда человек, по превосходному изречению Августина [1], становится вопросом для самого себя и начинает искать ответа, которым он может быть обязан себе и только себе, он, для более ясного, более наглядного познания, развертывает перед собой свой жизненный путь как карту. Не другим хочет он себя разъяснить, а прежде всего себе самому; здесь начинается раздвоение пути (и в наши дни заметное в каждой автобиографии) между изображением жизни или переживаний, наглядностью для других или наглядностью для себя, объективно внешней или субъективно внутренней автобиографией, вестью другим или вестью себе. Одна группа тяготеет к гласности, и формулой для нее становится исповедь - исповедь в церкви или в книге; другая - предпочитает монологи и удовлетворяется дневником. Лишь действительно сложные натуры, подобные Гете, Стендалю, Толстому, решились здесь на полный синтез и увековечили себя в обеих формах.
Самосозерцание - лишь подготовительный, пока еще не возбуждающий сомнений шаг: всякой истине легко оставаться правдивой, пока она принадлежит себе. Лишь приступив к ее передаче, начинает художник терзаться; тогда только каждому самоизобразителю нужен настоящий героизм правдивости. Наряду с исконным непреоборимым стремлением к общению, заставляющим нас братски делиться неповторимостью нашей личности, в человеке живет и обратное побуждение - столь же стихийное стремление к сохранению себя, к умалчиванию о себе; оно является продуктом стыда. Как женщина, побуждаемая волнением крови и уже готовая отдаться мужчине телом, в то же время, под действием бодрствующего инстинкта противоположного чувства, хочет оберечь себя, так в области духовной желание исповедаться, довериться миру борется со стыдливостью души, советующей нам умолчать о сокровенном. Самый тщеславный (и, главным образом, он) не ощущает себя совершенным, каким он хотел бы казаться перед другими; поэтому он хочет похоронить с собой свои некрасивые тайны, недостатки и свою мелочность, вместе с тем лелея желание, чтобы образ его жил среди людей. Стыд, таким образом, является вечным врагом искренней автобиографии; он льстиво старается соблазнить нас, представить себя не такими, какие мы есть, а какими мы хотели бы казаться. Коварством и кошачьими уловками он соблазнит честно стремящегося к искреннему признанию художника скрыть самое интимное, затушевать самое опасное, прикрыть самое тайное; бессознательно он учит созидающую руку выпустить или лживо разукрасить обезображивающие мелочи (самые существенные в психологическом отношении!), ловким распределением света и тени ретушировать характерные черты, превратив их в идеальные. И кто по слабости воли уступит его льстивому настоянию, тот придет не к самоизображению, а к самоапофеозу или самообороне. Поэтому каждая честная автобиография вместо простого беззаботного повествования требует постоянной настороженности перед возможным нападением тщеславия, упорной защиты от неудержимого стремления земной природы оправдать себя в изображении перед лицом мира; тут, кроме честности художника, нужно еще особенное, встречающееся у одного среди миллионов мужество, ибо никто не может проконтролировать и дать очную ставку правдивости собственного "я"; свидетель и судья, обвинитель и защитник соединяются в одном лице.
Для этой неизбежной борьбы с самообманом нет совершенной брони. Как в каждом военном ремесле для самой крепкой кирасы находится еще более крепкая, пробивающая ее пуля, так при каждом познавании сердца совершенствуется и ложь. Если человек решительно захлопывает дверь перед ней, она станет увертливой, как змея, и пролезет сквозь щель. Если он психологически проанализирует ее козни и ухищрения, чтобы дать им отпор, она, несомненно, научится новым, более ловким уверткам и контратакам; как пантера, она вероломно прячется в темноте, чтобы коварно выскочить при первой же неосторожности; вместе с ростом способности познавания и психологического нюансирования в человеке утончается и возвышается искусство самообмана. Пока с истиной обращаются грубо и неуклюже, и ложь остается неуклюжей и легко уловимой; только у человека, стремящегося к тонкостям познания, она становится изощренной, и распознать ее сумеет лишь много познавший, ибо она прячется в запутаннейшие, отважнейшие формы обмана, и самая опасная ее личина - это искренность. Как змеи охотнее всего прячутся под камнями и скалами, так и самая опасная ложь чаще всего гнездится в великих, патетических, мнимо героических признаниях; в каждой автобиографии, именно в тех местах, где повествователь особенно смело и неожиданно обнажается и нападает на себя, приходится быть настороже, - не пытается ли эта бурная исповедь спрятать за покаянными ударами в грудь утаенное признание: в исповеди бывает иногда некоторая крикливость, почти всегда указывающая на тайную слабость. К основным тайнам стыда надо отнести свойство человека охотнее обнажать самое ужасное и самое отвратительное, чем ничтожнейшую черточку характера, выставляющую его в смешном виде. Страх перед иронической улыбкой является всегда и везде самым опасным соблазном для каждой автобиографии. Даже такой проникнутый стремлением к истине автобиограф, как Жан Жак Руссо, с подозрительной основательностью выложит все свои сексуальные извращения и будет искренно раскаиваться в том, что он, автор "Эмиля", знаменитого трактата о воспитании, дал своим детям погибнуть в приюте, в действительности же за этим мнимо героическим признанием скрывается более человечное, но и более трудное - что у него, вероятно, никогда не было детей, ибо он неспособен был их прижить. Толстой охотнее назовет себя в своей исповеди блудником, разбойником, вором, изменником, чем хоть одним словом сознается, что всю свою жизнь не признавал своего великого соперника Достоевского и невеликодушно поступал по отношению к нему. Спрятаться за раскаянием, умалчивать, признаваясь, это самый ловкий, самый лживый трюк самообмана в самоизображении. Готфрид Келлер однажды зло посмеялся над этим обходным маневром всех автобиографов: "Один сознавался во всех семи смертных грехах и скрыл, что у него на левой руке только четыре пальца; другой описывает и перечисляет все пятна и родинки на своей спине, но молчит, как могила, о том, что лжесвидетельство отягощает его совесть. Если я подобным образом сравню их всех с их правдивостью, которую они считали кристально чистой, я должен буду спросить себя: "Существует ли правдивый человек, и может ли он существовать?"