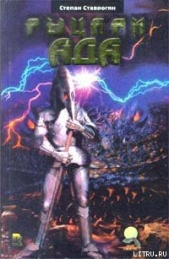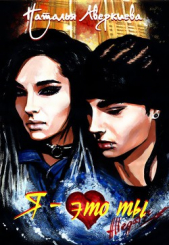Волшебный лес
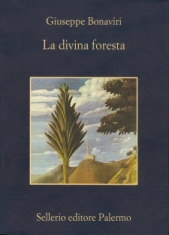
Волшебный лес читать книгу онлайн
Жизнь на мегаконтиненте Минео развивается в муках, однако не утрачивает естественной гармонии с природой до тех пор, пока на сцену не вступает человек, завершающий своим вредоносным, гибельным вмешательством цепочку природных трансформаций от простейших организмов к высшим. Роман пронизан тревогой за судьбы всего живого, но это тревога созидания, а не отчаяния. Автор оставляет нам надежду на бесконечность изменений и настойчиво ищет связь человека не только с землей, средой обитания, но и с космосом, видя в этих поисках путь к осознанию высшего смысла жизни.
Джузеппе Бонавири создал роман поистине трудный для восприятия, требующий от читателя обширной исторической, и философской, и естествоведческой подготовки. Весьма неординарна и сама стилистика романа.Автор предисловия к «Волшебному лесу» Джорджо Манганелли подчеркивает, что «в мелофонетическом строе романа ощущается стремление воссоздать звукопись мертвых языков: свистящие переливы древнегреческого, загадочные гортанные модуляции древнеарабского, строгую мелодику латыни, причем не сухой, ментальной латыни Овидия, а философского лиризма, свойственного Проперцию…». Наряду с лингвистическими экспериментами явствен в романе и фон поэтический — ритмизованная, стиховая окраска текста. И это не случайно, ведь Бонавири начинал именно как поэт, шел от поэзии к прозе, а позже, став уже зрелым мастером, вновь вернулся к поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вокруг разливалось дыхание радости, все исходило несказанной кроткой нежностью, особенно сияющее вдали солнце и вертящиеся планеты, чуждые прежнему хаосу.
О, что за волшебный сон объял меня!
II
Проснулся я расслабленный и вялый. Потянулся и несколько раз зевнул.
«Что мне делать?» — спросил я себя.
Моя подруга бодрствовала, подобная чистой идее, она вся превратилась в зрение. Чтобы окончательно пробудить меня от тяжелого сна, она ущипнула меня за хвост, вернее, за ложноножку, безжизненно лежавшую в космической пыли.
— Все еще спишь, милый Ферменцио?
Ох и надоел же этот пронзительный голосок, трескуче звонкий, прыгающий в воздухе!
— Погляди, Ферменцио!
Вокруг меня многое переменилось.
Объясню вам вкратце. Посредине было солнце, а вокруг, в стройной законченности бесчисленных окружностей, большие и малые планеты, освещенные с одной стороны и темные с другой, плыли по своим эллиптическим орбитам.
— Вернемся, — предложил я, смущенный столь совершенной гармонией миров.
— О нет, — ответила Грумина, снова ущипнув меня. — Вперед, скорее!
И, хоть я пребывал в нерешительности, мы двинулись вперед. Моя подруга говорила мне, привизгивая, как всегда, что настало время получше узнать друг друга, затеяв новое приключение.
Нас словно подталкивал какой-то ветер, и сладостно было оставлять в небе узкий, мгновенно расплывающийся след. Сами не ведая того, мы рассеивали по пути наше семя, и не по нашей воле стало оно потом зловещим, печальным и бедоносным для всех.
Подхваченные спиралевидными гравитационными потоками, мы без всякого усилия оказались на планете (ставшей потом моим пристанищем), которую занимали обширные моря и бескрайние леса, перемежавшиеся горными хребтами и грядами скал.
Пробиваясь сквозь эфироподобную влагу, где мы увязали, а потом освобождались, исчезая и вновь появляясь, подобно падучей звезде, мы устремлялись все ниже и ниже, пока не оказались над горами, которые я назвал Камути, чтобы не путать с прочими; и там, в долине, я впервые увидел горный поток, стремивший воды бурливо и задорно, вопреки их естеству.
— Думаю, здесь нам будет хорошо, — сказала подруга.
Прямо у наших ног зияла трещина, в ней я заметил пучки трав и мха, торчавшие из расселин между камнями.
— Останусь здесь, — сказал я.
Странное дело, Грумина согласилась.
Мы пробрались вверх по влажной, еще не успевшей высохнуть глинистой тропке и, словно робея перед всеми этими созданиями природы, тысячей красок переливавшимися вокруг, притаились за скалой.
Там было неплохо. Я проснулся, чувствуя на себе Грумину, и, хоть ново и неслыханно было положение, в котором мы очутились, без устали глядел наружу, наблюдая за происходящим.
Пока я так смотрел, мне открывались все новые и новые необычайные картины, и под конец я оказался в раздоре с моими же собственными желаниями.
Внизу, в ущелье, зияла пещера, наполненная тенью, а над нею начинался подъем, усеянный камнями и странно неподвижными деревьями.
Признаюсь вам: приучившись различать и делить на разновидности все в окружающем меня мире, я заметил, что при каждом новом впечатлении волнение мое нарастало и это повторялось в определенном ритме.
— Что со мной? — спросил я себя.
Я вернулся в мое темное, поросшее мхом прибежище. Когда я видел, что все краски блекнут, расплываются и гибнут в слабеющем свете, я говорил себе: «Эти изменения преходящи, вот какое им название».
Меня обуревали всевозможные догадки.
— Что ты об этом думаешь, Грумина? — то и дело спрашивал я.
Грумина не отвечала, всецело поглощенная своим занятием: она скакала на мне верхом (выражаюсь так, чтобы вам было яснее) и таким образом вызывала в моем естестве бесчисленные перемены, превращая меня в систему живых органов, какой я никогда прежде не был. Скользя вместе со мной среди мха, она наполняла меня тончайшей россыпью частиц.
— Да оставь же меня, оставь, — говорил я.
Между тем мне захотелось сделать обратимой эту цепь превращений, которую я решил назвать временем (а другие могут назвать бедой, гибелью, воплем отчаяния, созиданием, разрушением и так далее), и, как мне кажется, я хотел бы, чтобы большая часть всего живого не была обречена исчезнуть. Вот почему я стремился обратно в скорлупу прежнего бытия, прежних познаний.
Заметив мою задумчивость, Грумина спросила:
— Чем ты занят?
В страхе, что она не поймет меня, я ответил:
— Смотрю — и больше ничего.
Она улыбнулась и хотела было снова пуститься вскачь, но вдруг как-то съежилась и ушла в себя, успев перед этим двусмысленно усмехнуться. Тем временем снаружи наступил вечер — начавшись в уголке неба, он постепенно захватил его целиком.
Это происходило не так, как теперь, когда сперва убывает свет и птицы смолкают в лесах: тогда из долины поднимался густой туман, приносивший с собой докучное кружение чего-то — я так и не смог определить, что это было. Поток по-прежнему мчал свои воды, но становился едва виден, вместо него оставалось лишь бледное мерцание.
— Что происходит? — спросила меня подруга. Она, по-видимому, вся ушла в какие-то свои игры, делавшие ее бесконечно далеким, почти чуждым мне суетным, мелким созданием.
Вот и хорошо, подумал я, смогу поразмышлять спокойно. Я увидел, что все живое клонилось в одну и ту же сторону, как бы растягиваясь, расширяясь, искривляясь под действием какой-то системы сил. Казалось, что и во мне самом происходит нечто подобное: быть может, это зной отяготил меня или я растворился в самой сердцевине Грумины, которую звал непрестанно; меж тем ни из долины, ни с нависавших гор не доносилось ни звука.
Можете смеяться над моими странными приключениями, но, уверяю вас, они не вымышлены.
Я заметил, что всякая вещь пережила превращение, утратив свой образ, и оставалась такой до тех пор, пока с гор Камути не явилось белое сияние и поток не заблистал снова среди тростника, густой невысокой травы, возле запруды, где росли первые цветы.
— Грумина! Грумина! — позвал я.
Никто мне не ответил — тогда еще не было эха, которое разнесло бы голос на огромные расстояния, — тут я впервые ощутил томление и отвращение к раздумьям.
Там, снаружи, мир все раздвигался так, как я вам описывал, я даже чувствовал это по странному зуду в своих ложноножках. Тогда я подумал, что, если бы мне удалось сократить мой крошечный мирок и подчинить все его части центростремительной силе, я смог бы вернуться в прошлое. В эти минуты во мне нарастало какое-то странное изумление, я чувствовал, как шатаюсь, словно сморенный сном, но еще не понимал, что для меня начинается череда новых жизненных испытаний.
Только много времени спустя я понял, что был бессилен остановить движение мира, который непрестанно раздвигался, изменялся и лишь в некой равноценности очертаний и красок отчасти оставался тем миром, какой я знал прежде.
III
Когда я превратился в огуречную траву, этому не способствовало какое-либо усилие воли.
Это просто случилось.
Я находился на черном остром выступе скалы, уже облепленном первыми лишайниками. Мне надо было успеть всосать побольше влаги, чтобы бутоны мои могли налиться до нужного размера — они всё вылезали и вылезали, не давая мне опомниться, меж стеблем и черенками листьев, покрытыми тоненькими густыми щетинками. Я хотел было задуматься, как это я сумел преодолеть одну преграду и оказался на подступах к другой, но копаться в прошлом было некогда, слишком много было неотложных насущных дел.
Однажды, когда отовсюду исходил несказанный покой, я услышал зов:
— Сенапо! Сенапо!
Понятно, я не обернулся, не зная, что зовут именно меня. Наклонившись, я разглядывал мои бутоны, даже пересчитывал их: один, два, три, четыре и так далее, словно для чего-то нужно было точно знать их число; и вот тот же голос позвал снова:
— Сенапо! Сенапо!