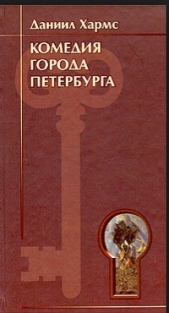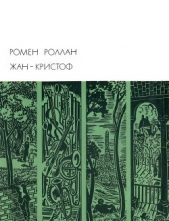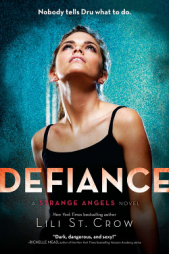Очарованная душа

Очарованная душа читать книгу онлайн
Целеустремленная жизнь Роллана всецело была посвящена творчеству, а творчество для него являлось одновременно средством самовыражения и действием, борьбой. Роллан писал для тех, кто стоит во главе армии в походе, для народа. И народ помнит и чтит Ромена Роллана, писателя, который вместе со всем передовым человечеством шел, как он сам выразился, дорогой, петляющей вверх.
В романе с большой полнотой отразился путь идейных исканий автора после первой мировой войны и революционный исход этих исканий. Он воплотил в этом повествовании самые важные жизненные процессы эпохи: смерть старого мира и рождение нового, воссоздал пути и перепутья западных интеллигентов-правдоискателей, их заблуждения и прорывы к истине, их поражения и победы.
Роман «Очарованная душа» – вершина творчества Ромена Роллана. Основная проблема романа – пути и судьбы французской интеллигенции.
Художественно-философской осью цикла является взаимодействие внутреннего мира героев и внешних обстоятельств их бытия. Автор отдает приоритет не изображению событий жизни героев, а анализу их духовной вселенной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он начинает думать, что в конце концов, если уж нельзя иначе, менее унизительно брать деньги у Сильвии, чем у других. Но после того, как он однажды отказался, не очень красив, о прийти к ней просить. И хотя в кассе пусто со вчерашнего вечера, он держится твердо; сердце сжалось еще больше, чем желудок. На его счастье, Сильвия в этот день проезжает мимо него в автомобиле, замечает его своим глазом сороки, сидящей на ветке, и окликает… Он собирает все свои силы, чтобы удержаться и не вскочить в автомобиль… И все-таки вскакивает! Но по крайней мере он испытывает удовлетворение от того, что, сидя в автомобиле и слушая эту болтунью, он снова обрел свой обычный снисходительный вид. А та, рассказав о своих делах, спрашивает, как идут дела у племянника…
– Знаешь, у меня денег куры не клюют! Возьми! Мне их все равно девать некуда…
– А он отвечает непринужденным, немножко фатовским тоном:
– Ах ты господи! Ну, если тебе так хочется! Я-то найду, куда их девать.
– Шалопай! – говорит она. – Ты бы лучше пришел ко мне, развлекся бы немного.
И она напихивает ему карманы. Он хочет ее поцеловать – она показывает ему местечко на щеке, где не пострадает косметика. Она щиплет его за мордочку, находит, что он бледен, немного похудел, но красив, взгляд стал серьезней, интересней; он, видимо, не теряет времени с тех пор, как пасется на свободе…
– Обещай, что придешь! Ну, обещай! А он отвечает с дерзостью Керубино:
– Обещаю! Ты заплатила вперед…
Она отталкивает его мордочку, оставляя на ней отпечатки двух своих пальцев.
– Голодранец! – говорит она, смеясь. – Нет, ты приходи! Увидишь: я никогда не плачу вперед…
Он ждет, пока скроется автомобиль, и отправляется в ближайший ресторан съесть кусок мяса с кровью. Его деликатный желудок наверстывает в этот вечер два пропущенных обеда. И он думает о том, что Сильвия была нынче дьявольски хороша. Какой костер в глазах! И как от нее пахнет! Он слизывает запах со своих губ…
Тем не менее он не торопится сдержать свое обещание. Он притворяется глухим, когда через две недели получает от тетки внезапное напоминание:
«Проказник! А долг?»
Ну нет! Если требовать таким способом, от него ничего не добьешься.
Но каждый день, в особенности когда он читает в прессе короля-парфюмера, что красивая парфюмерша устроила в своих салонах пышное празднество с танцами, музыкой и самой модной пьесой для тузов финансового и политического мира, их самок и сопровождающих их шутов из мира искусства и печати, он горит желанием пойти посмотреть. Чем он рискует?
Он рискует многим, но только не признается в этом себе. Не хочет признаться. Он не может не чувствовать: ему грозит опасность. Подобно молодому Геркулесу, он стоит на распутье. И если сам Геркулес избрал дорогу прялки и подушки, то очень мало шансов, чтобы пропащее дитя Парижа стало на путь отречения, когда обольстительная Омфала постоянно зазывает его. Марк мысленно измеряет наслаждения и трудности, крутые вершины, на которые надо будет взбираться, и уже с первых шагов чувствует себя таким утомленным! Голова у него кружится, все тело ломит, предательская слабость разливается в ногах. Как и у всех окружающих его молодых людей – устремление вниз, в бездну забвения; забвение – самая сильная приманка чувственности! Удрать от самого себя… Уклониться от действия… «Кто меня заставляет? Жребий нашего бесчеловечного времени? А я не говорил, что хочу жить именно теперь! Я отвергаю такой жребий! Я не могу… Жребий – это я сам. Я сам себе приказываю преодолевать крутизну… Но какие у меня шансы достигнуть вершины? И что я там найду, когда доберусь, изнуренный, измученный, утративший свою сущность? Да и найду ли что-нибудь? А если по ту сторону перевала – небытие?»
Всюду небытие и смерть. Война, которую считают конченной (а она еще продолжается), опоясала пространство зоной удушливых газов. Она заволакивает горизонт. Она – реальность, единственная реальность, которая повелевает всеми этими молодыми людьми. Все идеологии, которые ее отвергают или, не смея отвергать, пытаются возвеличить, все эти идеологии – потаскухи, которых надо бить по щекам. Я им морду набью! Вот она – война!
Она держит меня когтями за горло, я слышу ее зловонное дыхание. Если я хочу жить, мне надо освободиться и бежать или прорваться. Прорваться – значит узнать, что находится по ту сторону… Узнать, суметь! Удастся ли?.. А бегство-это тоже способ узнать, но только более низкий: узнать, что битва проиграна! Спасайся, кто может! Но такие, как Марк Ривьер, могут опасаться, только прорываясь сквозь неприятельские ряды. Удирать вперед! Он все время повторяет это, чтобы убедить самого себя… Но убежден ли он? Вокруг него полный развал, и молодежь и старики удирают во все лопатки!
Все нашли выход и ринулись к нему: дансинги, спорт, путешествия, курильни, самки, – наслаждения, игра, забвение – бегство, бегство…
Было двадцать способов бежать. Но ни у кого не хватало честности признать, что любой из этих способов – бегство. Нужно быть очень сильным, чтобы презирать себя и все же сохранить волю к жизни! Наиболее изысканные, в том числе Адольф Шевалье, предлагали уход в искусство и в природу… Первая эклога (и вторая также). Ах, какой прекрасный пример этот нежный послевоенный Вергилий, побежденный, как и они, застольный певец новых богачей, подписывающих проскрипции!.. (О, ирония! И расслабленной руке этой тени доверился суровый Дайте!) Мантуанец еще мог возглашать: «Deus nobis haec otia…». [94] Но молодым Титирам и Коридонам сегодняшнего дня никакой Deus не явился. Им потребовалась бы сильная доза самообмана, чтобы сообразить, будто грядущее потрясение старого мира пощадит тех, кто, закутавшись с головой в одеяло, старается ни о чем не думать; тех, кто, подобно курице перед меловой чертой, застыл за игорным столом искусства, где роль крупье исполняет изнеженный эстетизм с его белыми, но грязными руками, которые всегда остерегались деятельности. Не будет пощады и тем, кто надеется, что от натиска бури их защитит старый очаг, древний кров, традиции, вековой домашний деревенский уклад жизни, охранявший их отцов! Как будто хоть одна стена сможет устоять перед грядущими бурями! Горе играющим на флейте, если они уйдут с поля битвы раньше, чем решился ее исход! Каков бы ни был исход, победитель растопчет их. И песни их развеются вместе с пылью… Но, быть может, они втайне надеются, что еще успеют поиграть в песочек, прежде чем их смоет Потоп? С них довольно и четверти дня, который им остался. Они обманывают свою жизнь надеждами на ее долговечность.
Хоть бы уж у них хватило откровенного цинизма признать: «Завтра я буду мертв. Завтра меня не будет. У меня есть только сегодняшний день. И я ем». Но они изо всех сил стараются найти себе то или иное (безразлично какое!) идеологическое оправдание… Почему они себя обманывают? А вот почему: когда интеллигенты от чего-нибудь отрекаются, они испытывают потребность прикрыть свое отречение всякими доводами. Более того, они ищут всяких доводов, чтобы восхвалить отречение. Без доводов они не могут шагу ступить. Их инстинкт разучился действовать самостоятельно.
Пусть это будут трусы или храбрецы, им всегда нужно какоенибудь «почему». А если пожелать, то всегда найдешь. В 1919 году беглецы не знали недостатка в глубоких и мудрых доводах, чтобы дать стрекача!
Марк презирает тех, кто бежит. Он презирает их с яростью, которая защищает его самого от искушения бежать. И так как он заранее дрожит при мысли, что не сможет устоять, он уже готовит себе некую видимость оправдания, он приберегает свою непреклонность только для осуждения тех беглецов, которые лгут, которые стараются прикрыть свое дезертирство каким-нибудь флером. Закон правдивости клана семерки: «Будь кем хочешь! Делай что хочешь! Если хочешь, беги! Но скажи: „Я бегу!“»
Они этого не говорили. Даже семеро начинали вилять. Адольф Шевалье первый стал ore rotundo [95] уверять, что надо «приспосабливаться к действительности»: он собирался уехать к себе в имение. «Устраивайтесь, как умеете! Я устраиваюсь! Я – реалист…» (Слово это пользовалось большим успехом в те времена. Оно позволяло обделывать дела и утверждать, что это вливает в вены страны свежую, здоровую, мужественную кровь политического прагматизма, который сможет оказать противодействие пустопорожней идеологии предыдущих поколений… Однако идеология этих поколений никогда не мешала ловкачам набивать себе мошну!..).