Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию
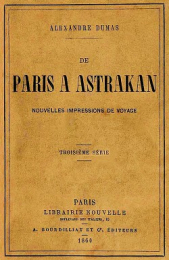
Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию читать книгу онлайн
Книга писателя мировой величины о России, изданная на Западе в разные годы двух последних столетий. К переводу принят текст, который сам Александр Дюма-отец отправлял в типографию. Это крупные путевые очерки с глубокими экскурсами в историю нашей страны. В них свои портретные рамы покидают государи и вельможи, реформаторы и полководцы, поэты и декабристы, становясь героями увлекательных и познавательных новелл, непрерывная цепь которых тянется через события веков от русских княжеств к империи Александра II, современной писателю. Воссозданы картины великих побед над «непобедимыми» армиями Карла XII и Наполеона. Оставлено клеймо гнусного рабства на крепостном строе, высмеяны царящие в стране злоупотребления и коррупция.
Книга складывалась во время путешествия Александра Дюма по России в 1858?1859 годах. Основные замечания и выводы писателя не утратили своего значения. Россия еще долго будет узнавать себя в зеркале этих очерков.
Перевод, вступительная статья и примечания: Владимир Ишечкин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Только, проявляя братство, пример которого люди подают не часто, другие гуси вместо того, чтобы по-прежнему спасаться бегством, в свою очередь, бросились в бой; не касаясь земли, они с оглушительными криками носились вокруг своего спутника или, скорее, вокруг сокола, посылали ему удары клювом, и под ними, очевидно, ему предстояло пасть, если бы наш калмык не поспешил на помощь, стуча в маленький бубен, который он держал на ленчике седла; он бил в бубен, чтобы ободрить свою птицу, объявляя ей союзничество, или ― чтобы распугать гусей, объявляя им еще об одном враге.
Мы сошли с тарантаса и тоже со всех ног бросились на помощь к нашему поставщику; но, когда примчались на поле битвы, к нашему огромному удивлению, убедились, что сокол исчез, хотя гусь находился там с явными признаками схватки. Тогда калмык, ожидающий нас для того, несомненно, чтобы продемонстрировать предмет гордости сокольничего ― всю сообразительность своего питомца, сначала позволил нам немного поискать сокола глазами, затем приподнял крыло гуся; он показал нам сокола, съежившегося под этим щитом, тот в этом убежище не опасался ударов и продолжал добивать противника, вернее, приканчивать жертву. Наш сокольничий, у которого, в противоположность князю Тюменю, не было с собой кожаного мешочка со свежей мясной мякотью, отрубил голову гуся, рассек ее и скормил птице мозг.
Сокол поглощал свою пищу с наслаждением, степенно и в то же время кровожадно; затем он вновь занял место на кулаке своего хозяина, а мы вернулись на свое место в тарантасе и продолжили путь, уже уверенные в нашем жарком на каждый день.
Калмык при гусе с кровоточащей шеей, подвешенном к ленчику седла, пустил галопом своего верблюда, опережая нас в направлении, каким мы должны были следовать. На подъезде к станции, мы увидели верблюда, вытянувшего шею на песке и отдыхающего; потом, немного дальше, ― нашего калмыка, который поджидал нас на пороге почты. При виде нас, калмык отважно низвергся в подвальную кухню, откуда валил густой дым, и, держащий доску с нашим жареным гусем, спустя минутку выскочил обратно. Князь Тюмень прислал нам не только сокольничего, но и умельца разделать и зажарить дичь; по словам Брийан-Саварена, такую raraavis (лат.) ― редкую птицу трудно сыскать.
Мы ели грудку гуся, жестковатую, немного недожаренную ― с кровью, но, в общем, очень смачную. Остальное мясо было отдано нашему сокольничему, станционному смотрителю и бедному маленькому калмыку в возрасте от пяти до шести лет, который, будучи полуголым, смотрел, как мы ели, и желание приобщиться к лакомому блюду выдавало выражение его запавших глазенок. Бедный ребенок был так счастлив, когда удерживал своим большим пальцем гусятину на куске хлеба, и его лицо выражало такое удовлетворение, когда он попробовал из стакана несколько капель нашего вина, что мной овладело огромное желание его осчастливить, забрав с собой во Францию. К несчастью или счастью для него, может быть, ибо кто знает, что ему приготовила бы наша цивилизация, оказалось, что, тогда как я принимал его за сироту и всеми покинутого, не знаю, в какой калмыцкой деревне, у него был некий родственник, обладающий на него правами, у которого надлежало испрашивать согласие.
Ребенок, безгранично восхищенный только что оконченной едой, больше всего нуждался в том, чтобы следовать за мной на край света; он, кто ел не каждый день, может быть, только что на всю оставшуюся жизнь вкусил хлеба, мяса и вина. Он заливался слезами, видя, что мы уезжаем; он признавал своим родственником лишь того, кто только что дал ему поесть; а родственник, бросивший его умирать от голода, по большому счету, вычеркнул его из своей семьи.
Наш сокольничий, ставший, благодаря своей полезности, самым интересным персонажем труппы, выехал вместе с нами. Четыре часа отдыха в день были достаточны его верховому животному, и эти четыре часа отдыха, благодаря превосходству верблюда в беге над лошадью, он всегда мог и себе обеспечить.
Вскоре вид степи изменился. Издали мы увидали, что перед нами развертывается желтоватый океан уснувших волн. Действительно, нам предстояло пересечь одно из тех песчаных морей, какие часто встречаются в пустынях калмыков и ногайских татар, и какие, когда поднимается ветер, становятся такими же опасными, как в пустыне Сахаре. Но в тот момент в воздухе не ощущалось ни малейшего ветерка, море песка было также недвижно, как море льда Шамуни [Chamounyx] или Сплюген [Splugen] [316].
Любопытно видеть формы этих зыбучих участков, которые только что терзал и вынудил принять ураган, вдруг прекращаясь. Здесь это ― улицы, словно образованные домами; там ― крепостные валы; в других местах ― лощины.
Как и степи, эти песчаные моря совершенно необитаемы, встречается лишь черная птичка с оперением и силуэтом нашей ласточки. В самых устойчивых местах этих образований, особенно, в скроенных остроконечными, она делает норки, на краю которых и отсиживается, испуская тихий печальный крик. Несомненно, из этих норок нет двух выходов; именно так, потому что, когда там мы приближались к их обиталищам, то вместо того, чтобы в них скрываться, они взлетали и садились на самые высокие песчаные холмики. Мы находились в той самой пустыне, где сгинула турецкая армия Селима II, как армия Камбиза ― в песках Египта.
В тот день, с шести часов утра до двух часов ночи, мы проехали девяносто верст. На несколько часов ― поспать ― остановились à Tchernoskaja [в Талагай-Терновской], где нашли только солоноватую воду; пить ее нам было невозможно. Наши же кучера и наш сокольничий делали это с наслаждением.
Сверяясь с картой, мы ожидали переправы через Куму в любую минуту. Эта река, в которую впадает Маныч, вызывала у нас беспокойство, даже, скорее, у меня, потому что я не решался ставить в известность спутников о своих опасениях. Я нигде не видел моста, обозначенного на той же карте, не надеялся, что устроят паромную переправу в предвидении нашего проезда, и видел только один способ спасения ― преодолеть Куму вплавь, держась за хвосты наших лошадей, как наши калмыки переплывали Волгу. Наконец, на четвертый день, закусывая превосходной дрофой, которую нам добыла наша птица, я отважился спросить, далеко ли до Кумы. Наш сокольничий, кому через Калино был задан вопрос, заставил повторить его дважды, затем обсудил его с нашими ямщиками, и те ответили, что Кума делается ужасной в мае и июне из-за таяния льдов [в горах], а зимой в ней нет ни капли воды.
Прибыв на станцию Kouminskaja [Кумская], мы не нашли лошадей и были вынуждены провести там ночь; но, чтобы нас утешить, станционный смотритель уточнил, что, если бы лошади даже были, предоставлять их запрещено всякому пассажиру, не располагающему эскортом. Несколькими днями раньше двое из троих седоков, загоревшихся уехать без эскорта, поскольку солнце еще не зашло, были убиты и один, хоть и серьезно раненый, увезен в плен.
Ночью лошади и эскорт вернулись; мы предъявили нашу подорожную, подкрепленную письмом генерала Беклемишева, и заполучили унтер-офицера и десять человек эскорта.
Поездка, принимая на себя немного опасности, приобретала также новое качество. Тут начинались стоянки линейных казаков; их живописное вооружение с долей фантазии каждого в отдельности, их военная выправка, их искусство верховой езды ― все это радовало глаз и заставляло трепетать сердце. Мы показали им наше оружие и заверили их, что, в случае чего, непременно будем стрелять вместе с ними; это возбудило в них энтузиазм, между двумя «Ура!» они прокричали на том образном языке, который является языком Востока:
― Мы не только сопроводим вас до следующей станции, если надо, донесем вас туда на руках!
Наступил вечер, и, так как ехать в ночь было запрещено, наши экипажи были взяты под охрану. Я предпочел, завернувшись в свою гусарскую венгерку, улечься в тарантасе скорей, чем кучер в помещении почтовой станции. Муане, завернутый в одеяла, спал в телеге. Что касается Калино, который, в качестве русского, больше всего боялся холода, то утром следующего дня мы узнали, что он спал на печи. Корпус стражи совсем не ложился. Он проводил ночь в пирушке, так как мы передали ему три бутылки водки.

























