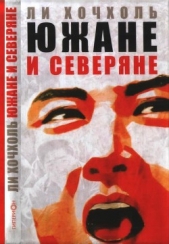Русские в начале осьмнадцатого столетия

Русские в начале осьмнадцатого столетия читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А что, старинный друг и приятель, — продолжал Прокудин, — скажи-ка мне по совести… О, Господи! и спросить-то страшно… Да уж так и быть — режь одним разом!.. Что ты, Данила Никифорович, веру переменил?
— Веру?.. Что ты, что ты, перекрестись!
— Так еще не переменил? Слава тебе Господи!
— Помилуй, с чего ты взял?..
— С чего? Да не прогневайся, коли наш брат, старик, без всякого принуждения, а по своей собственной охоте пойдет на такое дело, так поневоле подумаешь, что ему в немецкую кирку захотелось.
— Эх, любезный!.. Ну как тебе не совестно, человеку умному, такие речи говорить? Да неужели по-твоему вся сила православия в нашей бороде? И коли я, по каким ли есть причинам…
— Так сделай милость, — подхватил Прокудин, — скажи мне, ради чего ты изволил оскоблить свою бороду?
— Изволь, скажу. Не знаю, захочешь ли ты понять меня, а коли захочешь, так поймешь. Господь Бог послал нам такого царя, какого еще до сих пор нигде не бывало. На воине — Александр Македонский; на суде — премудрый Соломон; в чужих краях — простой работник, поденщик ради того, чтоб перенять все хорошее и изведать не по рассказам, а на себе самом, что пригодно и полезно для нашей матушки святой Руси; дома у себя — хозяин, да еще какой! Ему нужды нет, что он трудится в поте лица и сеет то, что пожнут другие: «Я, дескать, умру, но ¦гусь-то святая не умрет; теперь, может быть, на меня станут досадовать, роптать, да зато внучата спасибо скажут». Ты себе, Максим Петрович, как хочешь ухмыляйся, покачивай головкою, а я все-таки буду говорить одно. Как свят Господь, так правда то, что наш батюшка Петр Алексеевич ничего не делает ради только одной прихоти или своей забавы, а если иное кажется нам непонятным, так это потому, что мы как дети: их учат складам, а они думают про себя: «Ради чего это заставляют нас твердить: буки аз — ба, веди аз — ва, что, дескать, это такое?» Ради того, деточки, чтоб вы грамоту знали: вот как станете сами читать, так и поймете тогда, зачем вас складам учили…
— Вот подлинно — век живи, век учись! — прервал Прокудин. — Недавно один премудрый молокосос толковал мне, что немцы — солдаты, а мы, русские — новобранцы; теперь ты мне изволишь говорить, что мы все, старики, безграмотные ребятишки и что нас, дураков, складам учат… Спасибо, любезный!
— Да это я говорю так, Максим Петрович, наприк-лад…
— И нечего сказать, — красно говоришь. А все-таки я не знаю…
— Зачем я бороду обрил? А вот послушай. На прошлой неделе завернул ко мне приятель, Иван Дндреевич Бухвостов, и рассказал, что было при нем в Воронеже, когда государь Петр Алексеевич изволил там находиться. В самый день светлого воскресенья Александр Данилович Меншиков обрил всем магистратским членам бороды и одел их в немецкое платье. В соборе, у заутрени, государь, увидя их в этом наряде, так обрадовался, что с ними первыми похристосовался, благодарил, что они его для такого великого праздника порадовали, пригласил к своему столу, пил за их здоровье и во весь тот день был так весел, что и сказать нельзя. Вот у меня и пошло бродить в голове; думаю про себя: «Что это государю нашему так полюбилось немецкое платье?» Думал, думал, да вот что мне пришло на мысль: хоть я не ведаю, почему наш премудрый государь желает, чтоб мы все одевались по-иноземному, а уж верно тут что-нибудь да есть! Не стал бы он так налегать на это, кабы тут не было никакой пользы. Я стар, живу на покое, ни на что ему не пригоден, так дай же я ему, нашему батюшке, хоть этим послужу. Авось, глядя на меня, и друтие тем же его потешат. Вот я заказал себе немецкое платье, а как мне вчера его принесли, так послал за цирюльником, да и отмахнул себе бороду. Ну, понимаешь ли теперь, для чего я — твоими же словами скажу — оскоблил себе бороду?
__ Понимаю, любезный! Ты уверен и не сомневаешься, что государь Петр Алексеевич знает лучше всякого, что для нас пригодно и полезно и что он, как истинный царь русский, любит свой народ паче всего на свете…
— Да! Видит Бог, я это думаю.
— Хорошо, любезный. Ну, а если б ты думал совсем друтое? Если бы ты верил и не сомневался, что государь Петр Алексеевич, попущением божиим и в наказание за тяжкие грехи наши, предался вовсе немецкой прелести и любит не свой православный народ, а немцев, голландцев и всяких других еретиков, которые теперь, словно саранча, обсели всю землю русскую, так и ты бы, Данила Никифорович, так же, как я, стал чтить государя Петра Алексеевича как помазанника Божия и повиноваться беспрекословно его царским указам, но, уж верно, ты для его потехи не нарядился бы каким-нибудь заморским шутом и не стал бы кланяться в пояс всякому немецкому колбаснику потому только, что он немец.
— Да помилуй, Максим Петрович, с чего ты взял, что государь Петр Алексеевич больше любит немцев, чем нас?
— А коли нет, так зачем же он, наш батюшка, имя-то свое, говорят, подписывает по-иноземному, и новый город свой назвал по-немецки, и нас всех немцами поделать хочет?.. Да что об этом говорить: коли Господь Бог наслал казнь, так молчи и покоряйся.
— И то правда, друг сердечный, что об этом толковать! По-твоему, это гнев небесный, а по-моему — Божье милосердие, так мы во веки веков с тобой не поладим. Давай-ка лучше побеседуем кой о чем другом, любезный, а нам есть о чем поговорить. Знаешь ли что, Максим Петрович? Ведь я сбирался к тебе в деревню!..
— Милости прошу.
У меня есть до тебя дело, и дело не шуточное; я сейчас об этом говорил с Аграфеной Петровной. Племянник мой, Василий Михайлович Симский, месяца два тому назад познакомился здесь, в Москве, с твоей сестрицею и с Ольгой Дмитриевной…
Познакомился!.. И верно, на вечеринке, или, по вашему, на ассамблее, у этого… Сестра, как бишь зовут твоего приятеля-то?..
— Какого приятеля, братец?
— Ну, вот этого немца, у которого ты вчера с аптекарем плясала.
— У Адама Фомича Гутфеля? — прервал Данила Никифорович. — Да, любезный, мой племянник бывал у него на вечеринках вместе с твоей сестрицею и племянницей… Да ты уж не думаешь ли, что этот Гутфель какой-нибудь булочник?.. Нет, Максим Петрович, он человек именитый, к нему сам государь изволит жаловать…
— Как не жаловать!.. Ведь он немец.
— Что немец!.. Немцев много. Адам Фомич и человек хороший, и живет барином. Он здесь у всех в большом почете…
— Еще бы!.. Делать-то нечего, станешь почитать и татарина, коли он тебе господин!.. Так твой племянник познакомился с моей племянницей у этого Гутфеля?.. Знаю, знаю!.. Ведь он, сиречь твой племянник, как по вашему-то, фенрик, что ль?..
— А вот, Бог даст, скоро и подпоручиком будет.
— Так, так!
— Он третьего дня ночевал у тебя в деревне.
— Ночевал, любезный.
— Ну что, как он тебе кажется?
— Молодец прекрасный!
— Так он тебе приглянулся?
— Как же!
— А что, друг сердечный, если б он посватался за твою племянницу Ольгу Дмитриевну!..
— Так я долго не стал бы его маять, а тотчас бы сказал: этому не бывать.
— Как не бывать?..
— Да так!..
— Фу, батюшки! Как дубиной по лбу!
— Не прогневайся!
— Да ты хоть подумай, Максим Петрович, Симский роду хорошего…
— Знаю, знаю! Его батюшка был казанским воеводою.
— Человек богатый.
— И это знаю.
— Так почему ж?..
— Долго рассказывать, Данила Никифорович, да и на что? Ты спросил, я отвечал, — чего ж еще тебе?
— Батюшка братец! — промолвила робким голосом Ханыкова.
Младший офицер, прапорщик (от нем. Fahnrich). 316
— Не твое дело, матушка! Покойная сестра, умирая, сдала мне с рук на руки свою дочь, завещала воспитать ее во всяком благочестии и страхе Божием, беречь и любить как родное свое детище. Что будешь делать! Согрешил я перед покойницей: не вполне соблюл ее приказание… Да Бог милостив, это еще дело поправимое… Теперь уж я с ней ни за что не расстанусь…
— Как, братец, — вскричала Ханыкова, — вы хотите Оленьку увезти в деревню?..
— Я затем и приехал, матушка.