Весенняя река. В поисках молодости
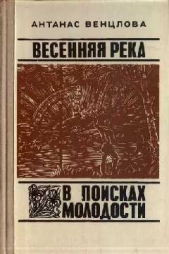
Весенняя река. В поисках молодости читать книгу онлайн
Автобиографические произведения известного литовского писателя Антанаса Венцловы охватывают более чем полувековой путь истории Литвы, отображают революционные события 1905 года и Великой Октябрьской революции, восстановление советской власти в Литве в 1940 году, годы борьбы с фашизмом.
Перед читателем проходит история крестьянского паренька, ставшего впоследствии революционером, коммунистом, видным политическим деятелем. Автор рисует целую галерею портретов выдающихся литовских писателей, художников, артистов, педагогов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Закончив с одним ульем, отец идет к следующему, снова окуривает пчел дымарем и снова добывает из улья соты. Соты облеплены пчелами. Отец смахивает их гусиным крылом. Крыло это зимой лежало в сарайчике вместе с остальным снаряжением — центрифугой, дымарем, новыми рамами для сотов… Здесь же стоял и сделанный за зиму, красиво окрашенный улей — весною его вынесли в сад, и он дожидался там новой пчелиной семьи…
Летом мужчины работали в поле, женщины помогали им или хлопотали на огородах и в кухне. Мне же поручили пчел. Рядом со мной в саду стояло ведро с кружкой. На суке яблони висел лемех, на земле под ним валялась длинная железина. Позже братья смастерили ручную водометку, которой можно было быстро набрать из ведра воды и при необходимости пустить струю выше самых высоких деревьев.
Иногда долго ходишь туда и сюда по саду, читая какую-нибудь «Красавицу Магелену и солдата Пятраса» или «Историю про пана Твардовского и его чудеса», и ничего не случается. А иногда ни с того ни с сего пчелы у одного из ульев принимаются жужжать все сильней — кажется, все обитательницы улья выбрались наружу и шумят, мельтешат, скучившись сплошным шаром. Это пчелы роятся!
Я не раз уже видывал роение и не терял времени даром, потому что знал: если не принять мер, то пчелы пожужжат, пошумят, помельтешат немного, а потом улетят не только от улья, но и из сада — их тогда и не увидишь! В такие минуты я старался не волноваться, как говорится, сохранять хладнокровие. Схватив железину, я принимался колотить изо всех сил по висящему под деревом лемеху, и, надо сказать, звон был не хуже, чем в поместье, когда зовут рабочих на обед. Бросив железину, я поливал кружкой галдящий пчелиный клуб или опрыскивал его из водометки.
Мне сопутствовала удача. Не помню я, чтоб прозевал хоть один рой. Пчелы, облитые водой и обалдевшие от адского звона стального лемеха, еще какое-то время жужжали в воздухе, но уже спокойнее, а потом, гляди, уже и уселся где-нибудь на дереве один, другой десяток, а вслед за ними повисала и вся большая пчелиная шапка. Услышав трезвон, отец, бросив работу в поле, бежит домой.
— Поймал! Поймал! — кричу я, прыгая от радости.
— Молодец, что пчел не прозевал! — коротко хвалит отец. — А де ройник?
Ройник, конечно, был в сарайчике. Это четырехугольный ящичек из тонких планок с крышкой наверху и с сеткой с одного боку. Отец тотчас зажигает дымарь, приносит стремянку (летом она всегда стоит в саду), приставляет ее к стволу и примеривается, как бы лучше добраться до сидящего на дереве отхожего роя. Я тоже лезу, и если не могу удержать ройник (он большой и несподручный), то хотя бы поднимаю дымарь так, чтобы дым шел прямиком на рой, склубившийся на ветке.
Простой деревянной ложкой отец черпает мокрых еще пчел и, словно вишни, кидает в ящик. Когда все пчелы уже там, он закрывает крышку ройника и, спустившись со стремянки, ставит ящик в тени. Вечером, когда воздух становится прохладней, отец пересаживает пчел из ройника в пустовавший улей, в котором уже есть несколько рам с сотами. Отец говорил, что надо следить, чтобы пчелиная матка (мне почему-то никогда не удавалось ее увидеть) попала в новый улей — без нее пчелы на новом месте не приживутся…
Вот наша пасека стала больше еще на улей. На следующий день пчелы уже вылетают из нового жилища и возвращаются в него. Улей стоит рядом с остальными — новый, красивый, синий с зеленым летком, в который влезают и вылезают пчелы. И приятно смотреть, как они летают, приятно слушать, как они жужжат, словно легкие и нестрашные пули…
Я иду сейчас садом и не вижу ни единого улья… Давно нет отца, нет ульев, нет пчел… Правда, через этот хутор прокатилось несколько пожаров. Уже который раз восстанавливают избу, в которой я рос, играл, учился жизни… Здесь прошла война, ходили чужие солдаты, менялись и люди в этом доме. И видно, после смерти отца здесь не оказалось никого, кто бы любил пчел так, как он. А без любви ведь не растет никто: ни дитя, ни поросенок, ни птица, ни пчела — маленькая букашка, но великая труженица.
ГОСТИ И ПРОХОЖИЕ
Поскрипывая пересохшими осями тележки, понукая свою слепую клячу, разъезжал по деревням Зялмонас. Это старый еврей, каких немного оставалось и в те времена — с бородой и пейсами, в длинном черном балахоне из блестящего сатина, подпоясанном веревкой, в лаптях, которые тоже почти перевелись в нашем краю. Долгожданный гость. Отец тотчас бросает кляче Зялмонаса охапку свежескошенной травы, если лето, или сена, если зима. Еще сидя в своей тележке, Зялмонас кричит:
— Щетину-волос, куплю щетину-волос… Старый вещь, старый вещь… куплю шкуру, старый сапог, хороший тряпка…
— А что привез? — выйдя из избы, спрашивает мама или тетя Анастазия.
— Душистого мылу, иголок, ниток, селедки — у Зялмонаса все есть… А куплю щетину-волос, куплю старый вещь, тулуп, хороший тряпка…
Тетя тотчас вытаскивает из-за балки в избе щетину, аккуратно связанную в пучки. Она ее там спрятала, когда осенью кололи свинью. Зялмонас вручает тетеза щетину кусочек душистого мыла. Мама тащит Зялмонасу приготовленный заранее узел, в котором увязаны рваные детские штанишки, ветхие шапки, найденный на дороге чей-то сапог. Зялмонас развязывает узел, ворошит вещи, рассматривает, потом завязывает снова и говорит:
— Что ты, хозяйка, такую чепуху!.. Я тебе две иголки…
— За столько вещей — две иголки? Как тебе не стыдно, Зялмонас? Ну, ниток тонких добавь еще катушку, и шут с тобой!
Отец приносит из клети свой старый, латаный-перелатапый полушубок.
Из ведерка, стоящего на задке телеги, Зялмонас извлекает две селедки, с которых капает соль и ржавая жидкость, и сует их отцу.
— За тулуп — две селедки? У тебя в голове помутилось, Зялмонас! — кричит отец. — Я же в город отвезу.
— В город, в город… Думаешь, так тебя там и ждут, в городе, хозяин? Что ты там получишь, в этом городе? На, бери еще, — он вытаскивает из ведра третью селедку.
Торг иногда продолжается долго. Перочинные ножики, которые показывает Зялмонас, нам не по карману. Только Пиюс, долго копивший деньги, может купить себе такой ножик. Мы бросаемся поглядеть, но он не дает, говорит, еще поломаете или куда-нибудь денете… Но, пожалуй, лучшая вещь досталась Забеле. Не знаю, с чего это тетя на сей раз так сорит деньгами — она покупает ей фарфоровую кукольную головку, к которой можно пришить туловище, набив паклей, и кукла готова. Забеле, схватив куклину голову, скачет в избу.
Закончив торговлю, Зялмонас с трудом взбирается на свою тележку. Все довольны не только покупками, но и тем разнообразием, которое внес в нашу жизнь этот новый человек. Никогда не знаешь, когда он приедет. Но Зялмонас — всегда долгожданный гость.
Однажды после полудня мы увидели человека, который направлялся к нам не по дороге, а напрямик, по полевым тропкам, казалось, пришел он из дальних краев — до того тяжело переставлял ноги. Сгорбившись, он втащился во двор, что-то буркнул в нос. Наверное, восславил Христа, потому что тетя Анастазия, процеживавшая молоко во дворе, ответила:
— Во веки вечные, аминь…
Мама какое-то время глядела на пришельца, потом узнала его и воскликнула:
— Винцукас! Откуда же ты взялся? Слыхали ведь — в Мерику уехал…
А, это мамин двоюродный брат, о котором она часто рассказывала нам как о смелом, смышленом парне. Теперь это мужчина в летах, в его волосах светятся серебристые прядки. Он смотрит на маму равнодушно, словно не слыша ее слов, потом нехотя сует ей руку и молчит.
— Давай зайдем в избу, Винцукас, — говорила мама взволнованно, предчувствуя недоброе. — Небось проголодался за такую дорогу…
Гость ничего не ответил, и матери пришлось взять его за руку и ввести в избу! Сидя на скамье, гость, кажется, дремал. Одежда на нем была поношенная, хотя, видно, сшитая когда-то из покупного сукна. Штаны продраны, и в прорехах белеет голое тело.
Мать тотчас зажарила яичницу на сале и подогрела оставшиеся от обеда щи. Гость ел жадно, давясь. Когда он поел, мама села рядом, стала гладить ему плечо и, глядя полными слез глазами на него, заговорила:
























